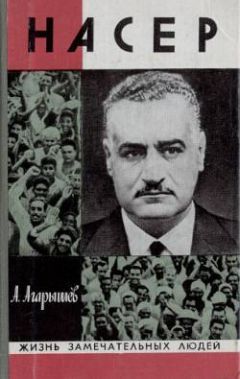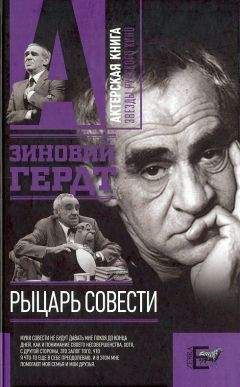Они молчали в отгороженной ставнями комнате.
— Вам, видно, никогда не приходилось испытывать отчаяния, — печально сказал египтянин.
Вместо ответа Скотт только закинул назад голову.
— Англичанам не приходится наказывать предателей. Их никто не предает…
— Ах!.. — Скотт вздохнул и беззвучно рассмеялся.
— Нас вынудило действовать отчаяние, капитан… Англичанам этого тоже не понять.
Скотт обернулся, чтобы посмотреть на египтянина; ему показалось, что тот теряет свою убежденность, свою силу.
— А теперь у вас скверно на душе, потому что вы потерпели неудачу? — спросил его Скотт.
— Наоборот, — ответил Гамаль. — Когда я узнал, что Хусейн Амер паша не умрет, я был счастлив. Я ведь уже понял, что мы поступили неправильно.
— Неправильно было в него стрелять? — поразился Скотт.
— Да. Нам нельзя становиться на этот путь.
— А какой же вы изберете путь?
— Послушайте, — сказал Гамаль. — Когда я скрылся в ту ночь, меня преследовали крики, стоны и мольбы о помощи. Все равно, кто молит о помощи, — даже такой, как он. В ушах у меня звучали эти крики, больше я ничего не слышал. Когда я понял, что ранен и не могу выйти из машины, мне тоже захотелось закричать о помощи, и я сразу же почувствовал, что совершил ошибку. А потом пришли вы, и я возненавидел вас; да, я ненавидел вас за то, что вы мне помогли, но мне скоро открылась истина. Понимаете?
— Нет. Не понимаю.
— Минутку! Минутку! В ту самую ночь я был почти без сознания, но меня мучила боль от ран и душило негодование. Я лежал в темноте, снаружи меня стерег мой друг Хаким, а я спрашивал себя: «Прав ты, Гамаль?» И отвечал: «Тобой двигала вера истинного патриота, Гамаль». «Да, но разве убийство человека — единственный путь к нашему избавлению?» И отвечал: «А что ж нам оставалось делать?» И тут я задал себе главный вопрос: «К чему склоняется твой дух, Гамаль? Пусть уйдет в небытие тот, кого не должно быть, или пусть появится тот, кто должен прийти?»
Скотт смотрел в сад, на глинобитную стену, освещенную солнцем. Комнату наполняли полутьма и прохлада, а снаружи, в заросшем саду, слепило раскаленное солнце. Там было лучше. По сухой и твердой египетской земле пробегали легкие, ненадежные тени. Ползучая бугенвиллея на шпалере высохла, пропылилась и, казалось, сама чирикала — так много сидело на ней воробьев.
— В ту ночь я нашел только один ответ, — сказал Гамаль. — Мы мечтали о величии нашей родины. Вот то, что должно прийти.
— А как же насчет необходимости? — напомнил ему Скотт. — Убивали вы ведь тоже по необходимости?
— Нет. Нет! В ту ночь, полную муки и угрызений совести, я понял, что лучше создавать то, что должно прийти. Лучше начинать, чем кончать. Куда лучше творить заново, а не уничтожать. Лучше прокладывать пути, чем растрачивать свою душу, борясь со злом и тем самым приемля его.
— Все это верно, — сказал Скотт. — Но вы когда-нибудь слышали, чтобы можно было сделать яичницу, не разбив яиц?
— Конечно, нет! — торжествующим тоном воскликнул Гамаль, словно давно дожидался такого глубокого откровения. — Но о чем вы думаете, когда разбиваете яйца? Об уничтожении яиц? Или о приготовлении яичницы? Уничтожение яиц — действие второстепенное, случайное.
— И тем не менее, необходимое, — настаивал Скотт.
Египтянин даже привстал:
— Это вы, англичанин, оправдываете убийство?
— Нет, убийство — это по вашей части, а не по нашей.
— Но вы на нем настаиваете!
— Нет. Есть другие способы уничтожить человека, не обязательно его убивать.
— Вот уж поистине английское рассуждение! — закричал Гамаль. Слово «английское» он сказал по-английски.
— Если вы — кающийся убийца, — спросил его Скотт, — что же вы теперь намерены делать, чтобы спасти вашу страну от проклятых англичан?
— Мы решим, что нам делать. А вы патриот, капитан?
— Вряд ли.
— Почему же вы сражаетесь за родину?
— В войне важно, кто из противников прав и кто виноват. Наша сторона права.
— Разве этого достаточно?
— А чего же вы еще хотите?
— Сердечного трепета, когда думаешь об отчизне.
— Я прожил большую часть моей жизни вдали от нее.
— Тем более!
— Это тюрьма, каменный мешок, воздух там черен от дыма. А народ…
— Ваш народ! Каков же он, ваш народ, капитан?
— Кто его знает… — ответил Скотт. — Я знаю бедуинов, четыре племени горцев с берегов Красного моря, феллахов Гирги и пастухов-сенуситов куда лучше, чем англичан.
— Но к кому же влечет вас чувство родства, капитан?
— Ни к кому. Это чувство ушло, оно мертво. Мы, англичане, все стали друг для друга чужаками, Гамаль. Чувство родства — умерло. Братство — исчезло бесследно.
— Тогда я все-таки не понимаю, почему вы воюете.
— Я же вам сказал. Потому, что мы правы, а они неправы.
— Но ведь и англичане неправы, разве вы этого не знаете?
— Неправы?
— Послушайте! Неужели я вам должен объяснять, что англичане бывают всякие — и плохие, и хорошие? Что у каждого из вас в душе тоже идет борьба, что правители ваши правят, а народ страдает…
Скотт развел руками:
— Человек не может ненавидеть свой народ, Гамаль.
— Не может. Но англичане должны понять, какое зло они приносят другим. Вы должны понять, что поступаете дурно, и решиться не причинять больше людям зла. Нация всегда делится на тех, кто прав, и тех, кто неправ. Обычно прав народ и неправы его властители. Но никто из англичан не понимает, какое они чинят зло.
— Так ненавидьте же их, Гамаль…
— Я мог бы сказать, что ненавижу англичан от всей души, что презираю их и желаю им всяких бед за то, что они эксплуатируют, развращают и истребляют нас; но в глубине души понимаю, что восхищался бы ими, если бы мог их понять — конечно, народ, а не правителей. Почему так трудно проникнуть в душу англичанина, капитан?..
Скотт встал, собираясь уйти: египтянин снова побледнел и говорил прерывисто, судорожно глотая воздух, и все-таки ему не хотелось отпускать Скотта от себя.
— Вы никогда нас по-человечески не поймете, — сказал ему Скотт. — В душу англичанина трудно проникнуть даже нам самим. Мы не разделены на правителей и угнетенных. Мы просто отгорожены друг от друга глухой стеной — каждый живет сам по себе.
— Что же вас разделяет, капитан?
— Если бы я это знал, я разрешил бы вопрос, который вас мучит. И меня самого тоже.
— Что же вас мучит, капитан?
— На вашем месте, Гамаль, я бы снова прибег к пуле из-за угла.
— Вы это говорите, чтобы я верил, что вы меня не выдадите?
— Я еще могу вас выдать, — сказал ему Скотт. — Вам бы следовало себя от этого обезопасить.
— Мы об этом думали, — сказал Гамаль, когда Скотт направился к двери. — Хаким хотел вас застрелить.
Скотт засмеялся и сказал, что он их понимает.
— Ага, теперь вы хотите запутать и меня в свою паутину необходимости?
— Я запретил ему убивать, капитан. Слишком долго я здесь пролежал, слыша голос, взывавший о помощи. Я никогда больше не погублю человека, не совершу акта уничтожения, даже по необходимости.
— А как насчет Хакима? Он все еще собирается меня застрелить?
— Да. Он до сих пор уверен в том, что если вы — настоящий англичанин, вы нас предадите. Но пока это от меня зависит, вы в безопасности. Я верю в людей, даже если эти люди — англичане.
Скотт опять засмеялся и ушел, обменявшись с ним утонченными арабскими любезностями и выслушав громкие заверения в братской любви, немыслимые по-английски.
Но по-арабски Скотт их отлично понимал.
Ночью Скотт услышал, что Гамаля увозят. Он стоял на маленькой площадке кирпичной лестницы, и до него доносились шарканье ног и тихая перебранка. Лунный свет был похож на мыльную воду. Скотт слышал, как вполголоса ругался лейтенант Хаким и как опекал своего пациента недовольный доктор. Остальных он не знал, но догадывался, что это люди неловкие — вчетвером они не могли поднять Гамаля, а Скотт поднимал его один. Стукнула дверца машины, и по звуку, с которым она отъехала, Скотт понял, что Гамаля увозят на полутонном «шевроле» египетской армии.
После завтрака Куотермейн заехал за ним на «виллисе», чтобы отвезти его к Пикоку (сегодня Скотту должны были дать новое назначение). Внизу он заметил, что двое каких-то людей внимательно разглядывают «тополино» Гамаля.
— Подождите, — сказал Скотт Куотермейну, который поставил свою машину позади «тополино».
— В чем дело?
— Я хочу посмотреть, что они делают, — негромко сказал Скотт.
— Кто?
Скотт кивнул в сторону незнакомых египтян. На них были чистые костюмы и аккуратно выглаженные рубашки. По виду это были чиновники, состоящие на государственной службе, скорее всего — в полиции. Заглянув в окно запертого «тополино», они отошли, но один из них старательно притворил ворота в сад Гамаля; они там явно успели побывать. Держали себя эти люди в высшей степени скромно.