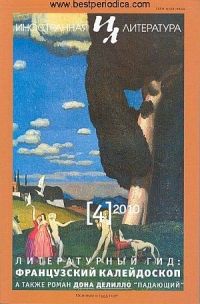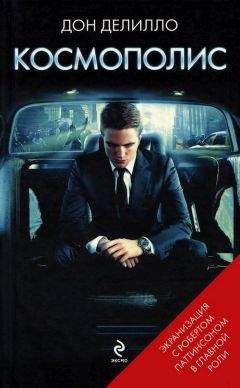Кейт уставился на нее, сидя за столом напротив.
— Когда это случилось?
— С час назад.
— Эта ее собака… — сказал он.
— Знаю. Я точно ума лишилась.
— А что теперь? Увидишь ее в подъезде, и что?
— Извиняться не стану. И всё тут.
Он сидел и, глядя на нее, качал головой:
— Ты не расстраивайся, но, когда я только что поднимался по лестнице…
— Можешь не говорить.
— Музыка играла, — сказал он.
— Наверно, это значит, что победа за ней.
— Не громче и не тише.
— Победа за ней.
Он сказал:
— А может, она умерла. Валяется там у себя мертвая.
— Жива она или мертва, победа за ней.
— Эта ее собака…
— Знаю. Я совсем спятила. Слышала свой голос со стороны. Как чужой.
— Я эту зверюгу видел. Наш мальчик ее боится. Ни за что не признается, но боится.
— Что за порода?
— Ньюфаундленд.
— Не собака, а целый остров, — сказала она.
— Ты везучая.
— Везучая и чокнутая. Грегор.
Он сказал:
— Выкинь эту музыку из головы.
— Грегор, имя кончается на «гор».
— А моя фамилия — на «кер». Выкинь музыку из головы, — сказал он. — Она ни к чему не подстрекает, ничего не проповедует.
— Но звучит в подъезде, как звучала.
— Звучит, потому что эта баба мертва. Лежит мертвая. И огромный пес ее обнюхивает.
— Мне надо больше спать. Вот что мне надо, — сказала она.
— Огромный пес нюхает промежность покойницы.
— По ночам я обязательно просыпаюсь, когда раньше, когда позже. Голова работает бесперебойно. Не могу выключить.
— Выкинь из головы музыку.
— Мысли какого-то чужого человека — не могу признать их своими.
— Он не спускал с нее глаз.
— Выпей какую-нибудь таблетку. Твоя мать в них разбирается. Так люди и засыпают, с таблетками.
— С таблетками, которые пьют люди, у меня сложные отношения. Я только хуже дурею. Тупею, начинаю все забывать.
— Поговори с матерью. Она в них разбирается.
— Не могу отключиться, не могу заснуть снова. Целую вечность не могу. А там и утро, — сказала она.
Истина открывалась в процессе медленного и неотвратимого угасания. В кружке каждый жил с сознанием этого. Труднее всего Лианне было смириться с неизбежным в случае Кармен Г. Кармен постоянно как бы раздваивалась: одна Кармен сидела на стуле, с каждым занятием все больше теряя задор и индивидуальность, что-то растерянно мямля, а другая — гораздо моложе, изящнее, чертовски обворожительная (такой ее воображала Лианна), страстная женщина в пору безрассудного расцвета, остроумная и прямодушная, кружилась в танце.
Лианна, тоже помеченная клеймом своего отца, возможно, обреченная на склеротические бляшки и сенильность, вынуждена была, глядя на эту женщину, сознавать, как это страшно: потеря памяти, личности, себя, накопление аномальных белков, неотвратимо отравляющих мозг. Вот, например, страница, которую Кармен написала и зачитала вслух: предполагалось, что это будет рассказ о том, как она провела вчерашний день. Но к теме, на которую они единогласно договорились написать, это не имело никакого отношения. Кармен сделала все по-своему.
«Я просыпаюсь, думая, где все? Я одна, потому что я такая. Я думаю, где остальные, сна ни в одном глазу, вставать не хочется. Мерещится: без документов встать с постели нельзя. Prueba de ingreso. Prueba de direccion. Tarjeta de seguro social [10]. Удостоверение личности с фотографией. Мой отец рассказывал анекдоты — не разбирая, похабные или безобидные: дети должны знать жизнь. У меня было два мужа, во всем разные, только руки одинаковые. Я до сих пор обращаю внимание, какие у мужчины руки. Потому что кто-то сказал: главное, какой мозг сегодня работает, ведь у каждого человека два мозга. Почему самое трудное на свете — встать с постели? У меня есть цветок, ему все время нужна вода. Никогда не думала, что цветок — это работа».
Бенни спросил:
— Но где же твой день? Ты сказала, это твой день.
— Это, наверно, первые десять секунд. Еще в постели. Когда мы в следующий раз соберемся, я, может быть, все-таки встану. Через раз — помою руки. Это день третий. День четвертый — умоюсь.
Бенни спросил:
— Мы так долго будем жить? Пока ты доберешься до сортира, мы все перемрем.
Затем они переключились на Лианну. Каждый из них что- нибудь да написал о самолетах, что-нибудь сказал, — а она? На сей раз эту тему затронул Омар X. — как всегда серьезный, поднял правую руку:
— А где были вы, когда это случилось?
Уже два года без малого, с тех пор, как начались занятия в кружке «Дни нашей жизни», а ее брак слился с полночным небом, она слушает, как эти мужчины и женщины рассказывают свою жизнь: с юмором, бередя душу, без обиняков, трогательно, ткут сети доверия, связующие их воедино.
С нее тоже хоть одна история причитается, не правда ли?
Кейт в дверях. Обязательно сказать об этом, нельзя умолчать, сущий кошмар: он жив, ее муж пришел живой. Она пыталась описывать события последовательно, рассказывала — а он так и стоял перед глазами, фигура, парящая в отраженном свете, Кейт в фрагментах, штрих за штрихом. Слова слетали с языка сами собой. Детали, запечатленные памятью без ее ведома: как на его веке сверкнул осколок стекла, точно бусинка пришита, и как они шли пешком в больницу, за девять или десять кварталов, по почти безлюдным улицам, ковыляли в полном безмолвии, и как им помог молодой парень, разносчик, совсем мальчишка, одной рукой поддерживал Кейта, а в другой нес коробку с пиццей, и Лианна чуть не спросила у него, как же клиенты умудрились заказать пиццу, если телефоны не работают, высокий латиноамериканец, а может, и не латиноамериканец, коробку нес горизонтально, на ладони, на вытянутой руке.
Ей хотелось не отвлекаться на мелочи, обстоятельно изложить все по порядку. Но иногда она не столько рассказывала, столько растворялась во времени, ныряла в какой-нибудь обрывок недавнего прошлого, привлекший ее внимание. Они сидели, как истуканы, глядя на нее. В последнее время на ней многие задерживают взгляд. Видимо, за ней нужен глаз да глаз. Здесь на нее полагаются: ее дело — внести ясность. Ждут слов с ее стороны баррикады, из мира, где прочное не распадается.
Она рассказала им о своем сыне. Когда он рядом, когда его можно видеть или потрогать, когда он погружен в себя или чем-то занят, страх отступает. Все остальное время она не может думать о нем без страха. Существует бестелесный Джастин, ребенок, которого она навоображала.
Забытые вещи, сказала она, или зловещий вид бумажного пакета с завтраком, или ощущения в метро в час пик: закрытые наглухо коробки под землей.
Она не могла смотреть на него спящего. Он оборачивался мальчиком из будущего, из времени, которое мысом уходит вдаль. Много ли знают дети? Дети знают самих себя, сказала она, и нам их знание недоступно, а они объяснить не умеют. В торопливом потоке обыденных часов и дней попадаются застывшие моменты-льдинки. Видя спящего сына, она не может никуда деться от мысли: «Что еще стрясется?» Все дело в его неподвижности — как у фигур в онемевшей дали, застывших в окнах.
Пожалуйста, сообщайте о подозрительном поведении или забытых вещах. Такая формулировка, верно?
Она чуть не рассказала им о портфеле, о факте его появления и исчезновения, не спросила, что это могло значить, если вообще что-то значило.
Хотела рассказать, но не рассказала. Все рассказать им, все поведать. Лианна нуждалась в том, чтобы они ее слушали.
Когда-то Кейту хотелось взять от жизни больше, чем можно успеть физически, больше, чем на то хватит сил в земном мире. Теперь расхотелось — вообще пропали желания, которые имеют реальное выражение, материальную форму. Ведь по-настоящему он никогда не знал, чего хочет.
Теперь он подозревал, что рожден для старости, что ему предначертано быть одиноким стариком, довольным своей одинокой старостью, а остальное: все сердитые взгляды и отповеди, свидетелями которых были эти стены, — призвано просто привести его к этой цели.
Так в нем проклюнулся его отец — сидящий в собственном доме на западе Пенсильвании, читающий утреннюю газету, совершающий послеобеденную прогулку — человек, вросший в сладостную рутину, вдовец, смакующий вечернюю трапезу, мыслящий ясно, живущий своей жизнью, никем не притворяясь.
У партий в хай-лоу был особый подтекст. Фишки всегда раздавал Терри Чен — поровну обоим победителям, за лучшую и худшую комбинацию карт. Несколько секунд — и готово, Чен уложил фишки разных цветов и достоинства двумя столбиками. Если фишек в банке много — несколькими столбиками, в два ряда. Высоких столбиков Чен не любил — могут рассыпаться. И одинаковых с виду — тоже. Свою задачу понимал так — составить два набора фишек, равных в денежном эквиваленте, но только, боже упаси, без симметричных цветовых сочетаний. Клал шесть синих фишек на четыре золотые, три красные и пять белых, а потом мгновенно, как защелкивается капкан — пальцы летали, руки невероятно изгибались, — подбирал шестнадцать белых, четыре синих, две золотых и тринадцать красных, дающие в сумме столько же; и, воздвигнув столбики, скрещивал руки на груди и вперял взгляд в неведомую даль, а два победителя забирали свои фишки с безмолвной почтительностью на грани благоговения.