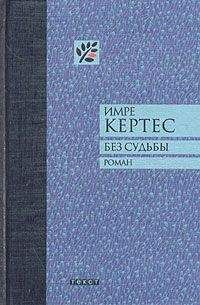я, даже наши жандармы, при всей их преувеличенной грубости, выглядели всего лишь шумными и суетливыми дилетантами на фоне этого молчаливого, четко согласованного во всех мелочах профессионализма. И пускай я хорошо видел лица этих солдат, цвет их глаз и волос, те или иные их характерные черты, даже недостатки вроде какого– нибудь прыщика на подбородке – я все же почему-то не мог уцепиться за это, мне словно приходилось убеждать себя в том, что рядом с нами идут живые люди, несмотря ни на что, в общем и целом похожие на нас, в конечном счете сделанные из того же теста, что и мы. И тут же мне пришло в голову, что я, наверное, в чем-то ошибаюсь: ведь, как ни кинь, я – не то, что они.
Я заметил, что мы поднимаемся вверх по склону, который становится все более пологим, и опять же идем по великолепной, но не прямой, как в Освенциме, а извилистой дороге. Вокруг было много естественной зелени, стояли аккуратные домики, в отдалении виднелись окруженные деревьями особняки, парки, сады; вся местность эта, все расстояния, все пропорции казались умеренными, даже, смело могу сказать, ласкали глаз – во всяком случае, глаз, привыкший к Освенциму. Справа от дороги мы вдруг увидели – и от удивления разинули рты – настоящий маленький зоопарк с косулями, разными грызунами, другими зверями, среди которых был и, довольно, правда, потертый, бурый медведь, – заслышав шаги нашей колонны, он возбужденно сел, приняв позу попрошайки, и даже проделал в своей клетке несколько шутовских движений – но на сей раз его старания остались, само собой, напрасными. Потом мы миновали какую-то статую, стоявшую посреди зеленой лужайки на развилке дороги, на белом постаменте, и выполненную из того же, что и постамент, белого, мягкого, зернистого, матового камня, поверхность которого, насколько я мог судить, была обработана скорее грубо, чем тщательно. По вертикальным полоскам, прорезанным в одежде, по голове без признаков шевелюры, а главное, по той деятельности, которую он изображал, сразу можно было понять: это – фигура заключенного. Голова, наклоненная вперед, и нога, выдвинутая назад, согнутая в колене и приподнятая над землей, обозначали, видимо, бег, в то время как руки судорожно обхватывали огромный каменный куб. В первый момент я смотрел на скульптуру – как нас учили еще в школе – незаинтересованно, видя в ней, так сказать, лишь произведение искусства, и лишь потом мне пришло в голову, что наверняка в ней заложен какой-то смысл и что, если подумать, она представляет собой не слишком благоприятное предзнаменование для нас, вновь прибывших. Но тут мы увидели густую проволочную сетку, затем – парадные ворота меж двух приземистых столбов, над воротами – некую застекленную вышку, слегка напоминавшую капитанский мостик на корабле; еще минута, и мы прошли под этой вышкой. Я прибыл в концентрационный лагерь Бухенвальд.
Лагерь расположен в холмистой местности и занимает верхнюю часть обширного склона. Воздух здесь чист, приятное разнообразие ландшафта – лес, перелески, внизу, в долине, красные черепичные крыши крестьянских домиков – радует глаз. Слева от главных ворот – баня. Заключенные, которые тебя встречают, в основном дружелюбны, хотя и несколько по-другому, чем в Освенциме. После прибытия тебя и здесь ждут мытье, парикмахеры, дезинфицирующая жидкость и смена одежды. Детали, так сказать, гардероба здесь вообще-то точно такие же, как в Освенциме. Только вода в бане теплее, цирюльники выполняют свою работу осмотрительнее, а кладовщик, выдающий одежду, пускай беглым взглядом, но все же старается угадать твой размер. Затем ты попадаешь в коридор, к застекленному окошечку, и там спрашивают, нет ли, случайно, во рту у тебя золотых зубов. Потом соотечественник, обитающий здесь уже давно, с отросшими волосами на голове, записывает твое имя в амбарную книгу и выдает треугольник желтого цвета и широкий лоскут материи – то и другое из холста. В середине треугольника, в знак того, что
ты в конце концов венгр, стоит буква U[20], а на лоскуте отпечатаны цифры твоего номера; на моем лоскуте значилось: 64921. Рекомендуется, как я узнал, по возможности скорее научиться четко, ясно произносить этот номер по– немецки: «Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig»: теперь на вопрос, кто я
такой, отвечать положено только так. Однако номер не наносят тебе на кожу, и, если тебе придет в голову еще прежде, например, где-нибудь в бане, с беспокойством поинтересоваться на сей счет, старый заключенный, воздев руки к небу и закатив глаза, запротестует: «Aber
Mensch, um Gotteswillen! Wir sind doch hier nicht in Auschwitz!»[21] При всем том и номер, и треугольник к вечеру должны быть у тебя на одежде, в районе груди, причем помочь тебе в этом могут единственные обладатели иголки и нитки – портные; если тебе очень надоест стоять в очереди, ты можешь ускорить процесс, пожертвовав какой-нибудь частью своей пайки хлеба или маргарина, но портной сделает свое дело и так, поскольку это в конце концов его обязанность, как нам сказали. Погода в Бухенвальде более прохладная, чем в Освенциме, дни здесь в основном пасмурные, часто моросит дождь. Зато в Бухенвальде случается, что уже на завтрак тебя порадуют горячей похлебкой с мучной заправкой; затем следует дневная пайка хлеба – обычно треть черной маленькой буханки, но иногда бывает, что половина – не так, как в Освенциме: там обычно четверть, и иногда пятая часть; в баланде, которой кормят в обед, есть гуща, а в гуще попадаются красноватые мясные волокна, если же очень повезет, то и целый кусочек мяса; здесь я
познакомился и с понятием Zulage[22], которое подразумевает, что к ежеднев– ному маргарину тебе добавляют («дают в пасть», по выражению все того же бывшего офицера, который и здесь оказался с нами, причем в таких случаях выглядел в высшей степени довольным) кусочек «вурста» или ложечку варенья. В Бухенвальде нас поместили в палатках – это был Zeltlager, то есть палаточный лагерь, или, другим словом, Kleinlager, Малый лагерь; спали мы на подстилке из соломы; спали хотя и все вместе и некоторым образом в тесноте, но все-таки в горизонтальном положении; проволочная ограда тут, на задворках лагеря, была еще не под током, но, предупредили нас, того, кто вздумает ночью выбраться из палатки, разорвут волкодавы – и сомневаться в серьезности этого предупреждения, даже если оно иных, может быть, сначала и удивляло, едва ли имело смысл. У другой же проволочной ограды, там, где начинаются булыжные улицы, аккуратные зеленые бараки и двухэтажные кирпичные домики большого, настоящего лагеря, расползающегося по склону во все стороны, – у ограды этой каждый вечер идет торговля: у лагерных старожилов, которые там появляются, можно довольно выгодно приобрести ложку, ножик, металлическую миску, какую-никакую одежду; один из них предлагал мне, всего лишь за полбулки хлеба, пуловер: он долго вертел его, показывая мне, объяснял что-то знаками, уговаривал, но я так и не решился купить: летом пуловер все равно ни к чему, а зима, мне казалось, еще далеко. Тогда же я увидел, сколько вокруг треугольников самого разного цвета и с самыми разными буквами: разобраться во всех них и понять, где чья родина, я в общем так и не сумел. Но и вокруг меня в венгерской речи звучало немало слов и выражений, отдающих провинциальным ароматом; кроме того, слух мой нередко улавливал здесь и то странное наречие, которое я впервые услышал в Освенциме от заключенных, которые нас встречали в вагоне. В Бухенвальде для обитателей Малого лагеря вечерней поверки не проводилось, а умывальная находилась на открытом воздухе, вернее, под развесистыми деревьями: устройство было, в сущности, такое же, как в Освенциме, но желоб сделан из камня, а главное, вода из отверстий текла, брызгала или, по крайней мере, сочилась целыми днями, так что здесь впервые – с тех самых пор, как я попал на кирпичный завод, – со мной случилось настоящее чудо: я мог пить, когда хотелось и сколько хотелось, мог пить, даже если и не хотелось, а просто приходила в голову такая мысль. В Бухенвальде тоже есть крематорий, но всего-навсего один, и он здесь – не цель, не суть, не душа, не смысл лагеря, это я смело могу сказать – ведь в нем сжигают лишь тех, кто скончался уже в самом лагере, так сказать, в нормальных условиях лагерной жизни. В Бухенвальде (сведения эти исходили, по всей очевидности, от старожилов, так дошли они и до меня) больше всего следует опасаться каменоломни; хотя – добавляли сведущие люди – камень там сейчас почти не добывают, не то что раньше, в их времена, как они выражались. Лагерь, как я узнал, действует уже семь лет; однако здесь можно было встретить людей и из еще более старых лагерей: я запомнил такие названия, как Дахау, Ораниенбург, Заксен-хаузен; именно тогда я понял, что означает снисходительная улыбка, которая появлялась при нашем появлении на лицах у хорошо одетых и взирающих на нас с другой стороны ограды привилегированных заключенных, на одежде которых я видел номера, показывавшие, что они из первых десяти или двадцати тысяч; но попадались мне и четырех– и даже трехзначные номера. Недалеко от нашего лагеря, узнал я, лежит знаменитый с точки зрения культуры город Веймар, о котором, само собой, и мне приходилось немало слышать дома, в гимназии: там, например, жил и творил, среди прочих, тот, чье стихотворение, начинающееся