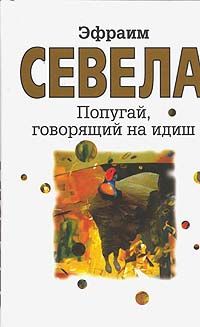С пачкой едко пахнущего кофе и ломкими хрустящими круассонами в открытом пакете она вышла из магазина, и кивком головы позвала его следовать за ней.
Дальше все было банальным. Вонь узких ободранных коридоров. Большая полупустая комната подруги, уехавшей в Италию и оставившей миссис Шоу ключи, чтоб она время от времени навещала оставленных кошек. О кошках свидетельствовали острые запахи, пропитавшие эти облупленные стены с многочисленными портретами владелицы этих кошек. Миссис Шоу сказала, что она обещающая актриса и уехала в Италию пробоваться в фильме. С портретов глядело немолодое потасканное лицо, которому актерская судьба не могла сулить никаких обещаний. Таких актрис предпенсионного возраста Алекс встречал во множестве и в Москве в Театре киноактера. После сорока жизнь может обещать актрисе лишь одинокую и необеспеченную старость в компании с еле волочащей лапы облезлой кошкой.
Миссис Шоу распахнула единственное пропыленное окно, и с улицы потянуло горечью гниющих в мусор— ных мешках отбросов. Затем согрела кофе, и этот аромат перебил остальные запахи, и Алексу даже показалось, что стало легче дышать. Она на ходу, обжигаясь, заглотала чашечку кофе, еще раз предложив Алексу, но, натолкнувшись на его категорический отказ, не стала настаивать.
— Отлично. Выпьем утром. А я пью в любое время дня и ночи.
Постель состояла из покрытого одеялом широкого квадратного матраса, положенного прямо на пол. У изголовья к стене прижались две подушки в цветных наволочках.
— Я — в ванную, — сказала миссис Шоу. — А вы располагайтесь.
Скоро зашумела вода за стеной. Алекс почувствовал неимоверную усталость и разделся, уже сонный, небрежно бросив одежду на пол у матраса. Откинул одеяло и шлепнулся спиной на мятую простыню не первой свежести.
Вода за стеной шумела. С улицы в комнату проникал усыпляющий гул из решеток метро. Алекс боролся с сонливостью, насильно держал глаза открытыми и чувствовал, что все больше и больше увядает, проваливаясь в вязкий сон.
Даже явление из ванной голой миссис Шоу, обмотавшей лишь бедра белым мохнатым полотенцем, не пробудило в нем бодрости. Алекс смотрел на ее покатые плечи с каплями воды на них, на еще крепкие, но основательно повисшие груди и с тревогой думал о том, что ему будет очень трудно возбудиться и привести себя в боевое состояние, когда она ляжет рядом с ним.
Но она не спешила ложиться. Сняла с бедер полотенце, посветив Алексу незагорелым и довольно вялым, как гесто, задом, и постелила полотенце на пол, как коврик.
— Немножечко йоги, — пояснила она и, нагнувшись, уткнулась головой в полотенце, уперлась руками и вздернула вверх ноги, разведя их чуть-чуть в стороны и открыв нелюбопытному взгляду Алекса за мохнатым черным лобком синий с розовым отливом клитор, похожий на улитку в раскрытой раковине. И так застыла, разметав по белому полотенцу черную с проседью гриву.
Застыла надолго. Потому что Алекс как ни силился, не смог превозмочь сон и выключился. Когда миссис Шоу растормошила его, он по часам-будильнику в ногах матраса определил, что она простояла на голове в своей позиции йоги почти пятнадцать минут. Миссис Шоу склонилась над ним, и ее груди болтались у его подбородка.
Алекс снова закрыл глаза.
— Вы что, спать сюда пришли? — услышал он гневный возглас миссис Шоу.
— Продолжайте свои упражнения, — сонно пробормотал Алекс. — Я сплю.
— Спать будете дома… в своей гостинице.
— И там тоже, — безвольно бормотал Алекс. Миссис Шоу стала трясти его за плечи, голова его замоталась на подушке, и он нехотя разлепил глаза.
— Отвяжитесь от меня. Хам!
— Пусть буду хам. Хоть час дайте вздремнуть.
— Не позволю! Вы мне нужны сейчас.
— А вы… мне… не нужны.
— Господи, — заломила руки, стоя на коленях на краю матраса, миссис Шоу, и ее густые прямые волосы делали ее похожей на американскую индианку, молящуюся своему языческому богу, — нельзя вступать в контакт с человеком иной культуры.
— О какой культуре вы бормочете? — рассердился Алекс. — Ваша-то культура в чем? Ложиться к мужчине без чувства, без волнения. В первый раз идти с ним в постель и перед этим постоять пятнадцать минут на голове, потому что это полезно для здоровья? Ну и пусть вас ебут йоги.
— Дикарь! — презрительно сказала миссис Шоу. — Единственное, что вы, русские, умеете, это оскорблять женщину. Я это читала где-то.
— Мы еще умеем посылать на хуй. Поняла, сука? Алекс проснулся окончательно.
У миссис Шоу засветились глаза:
— О, у вас сон прошел? Не будем пререкаться. Удовлетворите меня.
И она привалилась к нему, сплющив обе груди на его шее и лице, и задышала часто.
— Ничего не получится, — замотал головой Алекс. — Я так не умею.
— Но вы должны обслужить меня.
— Как это… обслужить? — оттолкнул ее Алекс. — Что вы несете? Уж и такую вещь, как воспетая поэтами близость мужчины и женщины… вы перенесли в сферу обслуживания… как мойку автомобилей и смену масла в моторе? Как я вас должен обслужить? Поясните мне мои обязанности.
— Если у вас не стоит и вы — импотент, то есть другие средства удовлетворить женщину… Пальцы… Язык…
— Заткни себе свой грязный язык в жопу! — по-русски сказал Алекс и поднялся на матрасе, снова перейдя на английский. — Дорогая миссис Шоу, обслуживать я вас не намерен. Для этого у вас есть рогатый муж. Адвокат. Все! А я ложусь спать.
— Нет уж! Спать я вам не позволю. Я сойду с ума, всю ночь созерцая ваше бесполезное, ни на что не способное тело. Уйдите! Оставьте меня одну. Это была ошибка. Мы — разных культур.
Алексу захотелось всласть, на много колен, изматериться по-русски. Но вместо этого он с мрачным лицом поднялся и стал одеваться. Перспектива переть обратно в метро так поздно не улыбалась ему. Голая миссис Шоу стояла у окна, демонстративно повернувшись к нему спиной, и не шевелилась, когда он уходил. В темной прихожей из-под ног шмыгнула, завизжав, кошка, и только тогда он услышал миссис Шоу:
— Варвар! Только зубная боль делает вас мужчиной!
Алекс вдруг усмехнулся.
— У меня к вам одна просьба, миссис Шоу. Свое недовольство мною, пожалуйста, не переносите на всех евреев. Вы же меня считаете загадочной славянской натурой? Не так ли? Так пусть братья славяне делят со мной не только мои успехи, но и поражения.
Он вышел, хлопнув дверью, и побрел вонючим коридором к выходу на улицу.
Гомосексуалистов на Кристофер-стрит поубавилось. Только редкие парочки обнявшихся мужчин, виляя бедрами, плелись впереди.
И вагон метро был пуст. Один негр сидел в другом его конце и удивленно и даже испуганно посмотрел на отважившегося спуститься в такой час белого. Вагонная качка стала его убаюкивать, и он думал о том, чтоб не проспать свою остановку.
Евреи, как известно, не выговаривают букву «р». Хоть разбейся. Это
— наша национальная черта, и по ней нас легко узнают антисемиты.
В нашем городе букву «р» выговаривало только начальство. Потому что оно, начальство, состояло из русских людей. И дровосеки, те, что ходили по дворам с пилами и топорами и нанимались колоть дрова. Они были тоже славянского происхождения.
Все остальное население отлично обходилось без буквы «р».
В дни революционных праздников — Первого мая и Седьмого ноября — в нашем городе, как и во всех других, устраивались большие демонстрации, и русское начальство с трибуны приветствовало колонны: — Да здравствуют строители коммунизма!
Толпы дружно отвечали «ура», и самое тонкое музыкальное ухо не могло бы уловить в этом крике ни единого «р».
Через город протекала река Березина, знаменитая не только тем, что на ее берегах родился я. Здесь когда-то Наполеон разбил Кутузова, а потом Кутузов —Наполеона. Здесь Гитлер бил Сталина, потом Сталин — Гитлера.
На Березине всегда кого-то били. И поэтому ничего удивительного нет в том, что в городе была улица под названием Инвалидная. Теперь она переименована в честь Фридриха Энгельса — основателя научного марксизма, и можно подумать, что на этой улице родился не я, а Фридрих Энгельс.
Но когда я вспоминаю эту улицу и людей, которые на ней жили и которых уже нет, в моей памяти она остается Инвалидной улицей. А среди ее обитателей почему-то первым приходит мне на ум мой дядя.
Его звали Симха.
Симха — на нашем языке, по-еврейски, означает радость, веселье, праздник — в общем, все, что хотите, но ничего такого, что хоть отдаленно напоминало бы моего дядю.
Возможно, его так назвали потому, что он при рождении рассмеялся. Но если так и случилось, то это было в первый и последний раз. Никто, я сам и те, кто его знали до моего появления на свет, ни разу не видели, чтобы Симха смеялся. Это был, мир праху его, унылый и скучный человек, но добрый и тихий.
И фамилия у него была ни к селу ни к городу. Кавалерчик. Не Кавалер или, на худой конец, Кавалерович, а Кавалерчик. Почему? За что? Сколько я его знал, он на франта никак не походил. Всегда носил один и тот же старенький, выцветший и заштопанный в разных местах тетей Саррой костюм. Имел внешность самую что ни на есть заурядную, и одеколоном от него, Боже упаси, никогда не пахло.