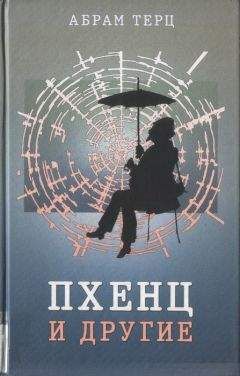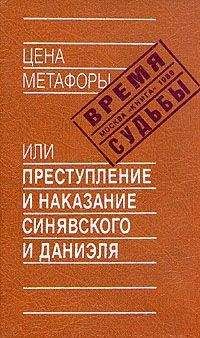— Витя! Витя! — прокричал Тихомиров, выводя велосипед. Витя не откликался.
Мастерская была пуста. На дворе под подошвами почва уже ходуном ходила.
— Витя! — позвал он еще раз и нажал на педали…
…А грохот надвигался. Танки-амфибии с трех сторон шли на Любимов. Они переваливали через овраги, проплывали болота, сминали низенький ельник, слабенький березняк и вылезали, оплетенные сучьями, грязью, тиной, кувшинками, — ископаемые бронтозавры, притом самой новой, сверхпроходимой конструкции. Тяжеловесные увальни, они топтали посевы, валили заборы, хибары, когда на них наталкивались, и в этом не было ни злого умысла, ни тактического расчета. Управляемые по радио, на большом расстоянии, они, несмотря на всевозможные фото- и звукоулавливатели, не могли разобрать в точности, где тут домик, а где деревцо, и шли бронированными стадами, напролом, без людей, пустотелые, не стреляя, только вытаптывая и вырубая проходы для будущего.
Из палисадника навстречу амфибии выскочил человек с берданкой и приложился пару раз крупной охотничьей дробью. Это был Витя Кочетов, не пожелавший, чтобы город сдался без единого выстрела. Чудовище, по которому он палил, остановилось, словно не зная, что ему делать с таким Противником. Оно напрягло все свои звуко- и фотоулавливатели и ничего не уловило. Помолчало, подумало, постояло, а потом, на всякий случай, хлестнуло вдоль улицы короткой очередью. Бывший сыщик и последний защитник города Любимова упал, перерезанный пополам, даже не вскрикнув.
Глава седьмая и последняя
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АККОРДЫ
В конце лета к попу Игнату приплелась убогая странница — из дальних, из городских, из самого, говорит, города Любимова, откуда по непроезжим дорогам будет, почитай, ни много ни мало, семьдесят семь верст, и как она прошла по тем лесным дорогам — уму непостижимо. Принесла творожок в тряпице и три рубля деньгами: отслужить молебен о здравии раба Божия Леонида да панихиду по усопшему Рабу Божию Самсону.
— Новопреставленный? — уточнил поп Игнат, любивший все делать с толком, по чину, и добавил уважительно — насчет Самсона: Древнее имя!..
— Древний, батюшка, древний, древнее некуда, — обрадовалась старушка. — Какой там новопреставленный!..
— А что, матушка, — полюбопытствовал отец Игнат, — взаправду сказывают, будто в Любимове стряслись великие мятежи, кричание, стреляние, злосмрадное пребеззаконие и были приняты муки за веру Христову и святую церковь?
— Было, батюшка, было, все было, — отвечала старушка как-то неопределенно, а потолковее рассказать, что же у них стряслось, так и не сумела.
Приход у отца Игната — самый захудалый. На краю света, можно сказать, висит и держится ветхая церковка, но, может, потому и висит и держится, что — на краю света и мало к себе гостей привлекает, и одних глупых старух, которым помирать пора, пытается обнадежить. Но служил поп истово, неторопливо и управлялся один, без помощников, и на всякую службу, глядишь, три-четыре старушки обязательно набежит, а по праздникам и много более того. Вот и нынче сошлись и расползлись по храму, ровно грибы лесные, большие, трухлявые грибы, распростерлись, распластались на полу — замаливать грехи отцов и сыновей, живущих и усопших.
Отслужил поп — сперва за здравие, а после за упокой, за Леонида и за Самсона, и читал, и кадил, и пел, и возжигал свечи — все сам. И хотя всего-ничего сунула ему дальняя бабка — творожок в тряпице да три рубля деньгами, — захотелось попу в укрепление, а может, и в нарушение чина спеть еще один заупокойный акафист, принесенный в русскую землю не откуда-нибудь, а со святой горы, с самого Афона. Уж очень любил отец Игнат тот заупокойный акафист и знал, что не повредит крепкая святая молитва ни рабу Божию Самсону, ни тому богоспасаемому граду Любимову, где нынешним летом, сказывают, стряслось, ох! и стряслось!..
«Отче наш, возвесели души ранее удрученных до конца бурями житейскими. Отче наш, да забудут они все скорби и воздыхания земные. Отче наш, утеши их в лоне Твоем, яко же мать утешает чады своя».
Земля отпускала медленно, тяжело, неохотно, но все-таки отпускала. Душа возносилась, забывая все скорби и воздыхания земные, все быстрее и быстрее, смеясь и трепеща от этой скорости и света, пронзающего ее легкий, невесомый состав, и ничего уже не ведая, ни о чем не помня, кроме этого долгожданного отпуска…
«…Спаси, Господи, скончавшихся в тяжких мучениях, убиенных, погребенных живыми, поглощенных землею, волнами, огнем, растерзанных зверями, умерших от глада, мраза, с высоты падением, и за скорби кончины их даруй им вечную радость Твою… Отче наш, даруй вожделенный покой умершим под бременем тяжких трудов. Отче наш, утоли скорби родителей об утрате чад. Отче наш, упокой всех одиноких, сирых, нищих, неимущих ближнего, молящегося за них…»
Поп Игнат пел, возглашал и трубил толстым голосом. Там, в Любимове, сказывают, содеяно большое смятение, беснование и гонение, много крови и много греха. И он старался перекрыть панихидой все, что там накопилось, и умолить Господа спасти грешных рабов Своих, какой бы смертью и каким бы грузом ни привелось им закончить свой скоротечный век. Он был не шибко учен, этот сельский поп, и мало смыслил в тонкостях богословия, но вызубрил, что, останься на всей земле одна его церквушка, он отсюда, с краю света, продолжал бы, как обычно, вызволять из беды нечестивое человечество, умершее и живущее, денно и нощно, как вол, как царь, как батрак, как Сам Господь Бог, Чьи милости неисчерпаемы, а труды непомерны. И эта полезная работа и почетная должность сделали попа важным и великодушным.
«…Отче наш, — возопил он с грозной торжественностью, — скорбим об ожесточении беззаконных хулителей Твоего Имени и Святыни. Отче наш, да будет над ними спасительная воля Твоя. Отче наш, умилосердися над уязвленными гибельным неверием. Отче наш, тяжки их грехи, но сильнее милость Твоя. Отче наш, прости скончавшихся без покаяния. Отче наш, спаси погубивших себя в помрачении ума. Отче наш, очисти их ради верных, вопиющих Тебе день и нощь. Отче наш, ради незлобивых младенцев прости их родителей. Отче наш, слезами матерей искупи грехи их чад…»
Матери были тут же, под рукою. Они ползали по полу, похожие на грибы, сыроежки, сморчки, синюшки, трухлявые, червивые, горбуньи и развалюхи. Как они живут еще? Чем дышат? Откуда черпают силы сползаться сюда? Зачем они и кому они еще нужны?..
……………………
В карманах — пусто, за душой — ни черта, позади — петля, впереди — неизвестность. Что ему посоветовать в этом сложном положении? Лишь одно: сунуть руки в карманы и вечерком, попозже, прошнырнуть по поселку на незнакомую станцию и в стороне от вокзала, чтобы ночью не встретился нежелательный милиционер, дожидаться, не пройдет ли товарный состав, а покедова погулять, засунув руки в карманы.
Эх! кармашки, интимные уголки, последнее, что осталось одинокому человеку! Кажется, что в них проку, в пустых-то карманах, а вот засунешь руку в штанину, и на сердце становится покойнее и теплее. Какой-никакой, а домик построен, конура найдена и, пожалуйста, располагайся тут со всеми удобствами. Сквозь протертую реденькую ткань подкладки доходит до тебя встречная нежность твоей ноги. Засунуть бы туда же голову, забраться бы в карман целиком и сидеть, подремывая, понюхивая коверкот, смешанный с наивным, всегда удивительным запахом собственной кожи и воздушной сухостью хлебных крошек.
Поджав к животу останное тепло, ты ходишь, озираясь, возле железного полотна и прячешься от облавы в нательные гнезда, ведущие потаенное, незримое существование. Куда скроешься глубже? Где лучше выплачешься? С кем поговоришь задушевнее, как не со своими карманами? Эх, кармашки, приютите, братишки, окажите гостеприимство обездоленному человеку!
Выпить бы. Пройтись по перрону. Кум королю. Заложив руки в карманы. Кому до нас дело? А наше дело сторона. Но вот, если остановят — «руки вверх» — вывернут карманы, лязгнут затвором — «руки вверх!» — и с вывернутыми карманами… нет, с вывернутыми карманами человеку лучше не гулять по земле.
…Товарный поезд у станции, по счастию, затормозил, подхватил его и укрыл в своих могучих сцеплениях. Прикорнув на платформе, среди высоких ящиков, Леня подремывал, поплевывал и ни о чем не думал. Никогда в жизни ему не было так свободно и уютно. Бремя власти, муки любви, заботы о будущем, память о прошлом, — все отваливалось, отпадало и оставалось на шпалах. Леня знал, что ему предстоит добывать себе деньги и документы, и какую-то одежонку, и какую-то работенку, подальше, в Донбассе, в Челябинске, в Караганде… Но его судьба — он был уверен — сложится и образуется сама собою, без усилий, и подарит ему чужой паспорт, новый угол и велосипедную мастерскую. Оттуда, из мастерской, он вызовет Витю, и тот приедет, и все опять образуется, как нельзя лучше, без усилий, по шпалам — в Донбассе, отскакивало — в Челябинске, отдавало — в Караганде. Поезд присвистнул тоненько, усыпительно, как умеет насвистывать только Витя, орудуя зубилом и напильником, и унес Леню в своих объятиях.