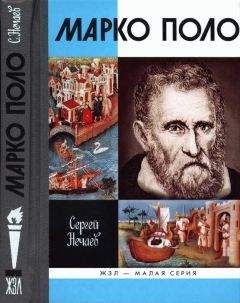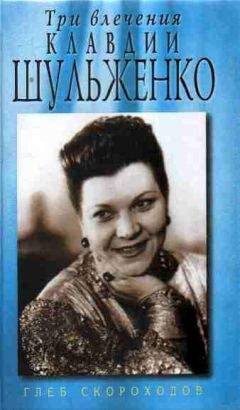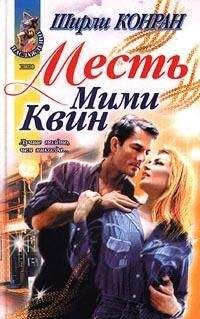Остальные майеннцы наткнулись на тот же антагонизм. Девчата — против любого ускорения темпов и срывают все их старанья, либо в открытую, либо исподтишка. Странная обстановка царит на абтайлунг{56}. Майстер Куббе что-то пронюхал.
Майенна теряет терпение. Разрыв произойдет вот-вот, то есть тогда, когда один из этих парней, вне себя, пойдет к майстеру Куббе или, может быть, даже к герр Мюллеру и объяснит, где буксует. Вот так и выходят из них полицаи для фрицев.
Однако, несмотря на совершенно героическую неохотность девчат, — я говорю «героическую» специально, потому что они-то своей шкурой рискуют, — прессы, за которыми стоят сыны зеленой Майенны, да еще и некоторые другие, — что правда, то правда, — мало-помалу наращивают производительность, как по количеству, так и по качеству. Майстер Куббе расправил плечи. Он поздравляет честных тружеников, похлопывает их по плечу, добрая его морда расцветает в широкой улыбке. Ибо морда-то у него добрая, ну да, конечно! Рекордсмену дня он делает поощрительные подарочки: кусок пирога из теста, замешанного руками самой фрау Куббе, сэндвич с копченой рыбкой, американскую сигарету… Теперь, когда он знает, что это возможно, он еще больше хмурится, стараясь придать себе свирепый вид, но на самом-то деле ему жутко неловко, когда он подходит к моему прессу и к прессу троицы других таких же как я сачков.
* * *
Первая неделя из двух уже прошла. Сегодня я во второй смене, в два заступать. Сразу же чувствуется что-то ненормальное. Девчата уже здесь. Стоят на своих рабочих местах, руки скрестили, лица застыли. Девчата из закончившей смены, — нет чтобы расслабляться своим обычным кавардаком насмешливо-унылых пререканий и постукиванием своих сбитых сабо{57}, — остались здесь, каждая на своем месте, бок о бок с подружкой, руки скрестили. Перед каждой из них, на опоре, в которую вставляются противни с головками снарядов, стоит коричневая эмалированная плошка-миска со скудной порцией той прокипяченной зелени, которую немцы помпезно именуют «Spinat», а вообще-то эта смесь черт знает каких прожилистых травинок, в которых преобладает ботва кольраби, вываренная в воде с солью, без малейшего намека на жир или картофель, это нахально противно, дерет тебе оно горло, я-то знаю, сам жру, мы с Марией делимся мисками.
Справляюсь у Марии, в чем дело. Та не отвечает, лицо деревянное, уставилась прямо перед собой. Спрашиваю у Анны, у той, у другой. Все тот же номер. Прессы с разинутым зевом ждут, сплевывая горячий смрад. Мужики растерянно топчутся на месте. Майенна нервничает.
Напрягаю весь свой скудный словарь русского. Латаю дыры немецким, когда он есть.
— Maria, skaji! Potchemou vy tak delaiete? Warum? Was ist los? Skaji, merde, skaji! Я-то, я что тебе сделал? Да пошла ты вообще!
Наконец она на меня устрашающе смотрит.
— Не говори: «Пошла ты!» Ты ничего не знаешь. Лучше так. Ты и не должен ничего знать. Это дело наше, только наше и все, отстань, дурак. Tol'ka smatri!
«Tol'ka smatri!», — я смотрю. Подваливает майстер Куббе.
— Aber was ist los? Was soll das heissen?[8]
Таня, Таня-Большая, с младенческими щечками, — ей семнадцать, — Таня-кроткая, Таня-ангел смотрит на майстера Куббе и произносит:
— Zabastovka.
И опять уставилась в пустоту, прямо перед собой.
Майстер Куббе зовет:
— Dolmetscherin!
Подбегает цеховая переводчица. Клавдия-психопатка, грамотная горлопанка и жеманница, которой лучше остерегаться, — во всяком случае, так говорят девчата. Шепчутся даже, что якобы с майстером Куббе… Ну что ж, конечно, цветастые платья так просто, сами собой, на задницах перемещенных лиц не растут ведь, «pognimaech»? Клавдия явно не в курсе. Заставляет ее повторить, окаменев от недоверия:
— Chto?
Таня повторяет, на нее не глядя:
— Zabastovka, ty, kourva!
Клавдия не отваживается перевести. Майстер Куббе занервничал:
— Was hat sie denn gesagt?[9]
Та с трудом выговаривает:
— Streik.
«Streik». Это забастовка. «Курву» не переводит. Это она умалчивает.
Майстер Куббе стоит, как мудак, раззявив пасть. «Streik»… Нахалки! В Берлине, в самый разгар войны, в логове национал-социализма, на заводе боеприпасов, они осмеливаются выговорить запретное слово! Эти невольники, эта нечеловечья срань, которая должна была бы ликовать от того только, что им сохранили жизнь! Майстер Куббе растерянно оглядывается по сторонам. И надо же, чтобы такое досталось именно ему!
Наконец он решился:
— Вы представляете, что вы делаете? Зачем вы это? Ну, ладно, дети мои, за работу, ничего здесь не было.
Клавдия переводит, добавляя несколько завитушек отсебятины: «Совсем вы что ль чокнулись! Мудачки вы гнусные, ведь вас же всех вздернут, да и меня вместе с вами! На хрена она мне сдалась, поебень ваша?»
Таня ее игнорирует. Поворачивается к майстеру Куббе, сует ему свою миску под нос.
— Nix essen, nix Arbeit! Vott chto! Ни кушать, ни работать! Вот что!
Майстер Куббе принюхивается к лужице зеленоватых прожилок, кивает головой, делает: «So, so…» (произносить надо: «Zo, zo…» — без точного прононса все пропадает, я так считаю), смотрит на Таню, говорит: «Ja, naturlich…», — и в конце концов решает:
— Это меня не касается. Разумеется, я выясню в столовой. Но нужно вернуться к работе, и сразу.
Таня говорит:
— Nein. Sofort essen. Denn, arbeiten. Нет. Кушать сейчас. Работать потом.
Клавдия, обиженная тем, что диалог ведется над ее головой, потея от страха, почти в истерике, вопит пронзительным тоном:
— Это саботаж, сволочи-коммунистки! В гробу видала я все ваши глупости, жирные вы коровы, жопы навозные!
Мария отходит от своего места, и не говоря ни слова влепляет ей с размаху здоровую оплеуху, потом вторую, с другой стороны. Потом возвращается и скрещивает опять руки.
Таня, не глядя на Клавдию, говорит:
— Ты-то ведь ешь, блядина. Ты-то себя не утомляешь. Разве что только задницу. Пристраиваешь ее на табуретке, на контроле, и проверяешь детали штангенциркулем. Так что не суйся!
Подваливает Циклоп, майстер, сдающий смену, озабоченный тем, что не видит появления своего стада. Он здесь за обермайстера, то есть по иерархии вроде стоит выше простого майстера Куббе. Он-то уж гад настоящий. Его единственный глаз быстро схватил ситуацию.
Таня протягивает ему миску, невозмутимо повторяет свой лозунг:
— Nix essen, nix Arbeit, Meister.
Тот отшвыривает миску с ее содержимым ко всем чертям, влепляет пару оплеух Тане, идет прямо в свою конторку и нажимает на кнопку. Проходит двадцать секунд, и появляются двое веркшутцев{58} в серой солдатской форме.
— Следите за ними!
Он снимает трубку вертушки и называет номер. Выходит из конторки и обращается к майстеру Куббе:
— Герр Мюллер сейчас придет.
Герр Мюллер здесь.
Герр Мюллер слушает, обермайстер ему вкратце докладывает. Невозмутимо. Он вещает:
— Dolmetscherin!
Клавдия делает шаг вперед.
— Скажи своим женщинам, что через пятнадцать минут, в моем кабинете, я приму их делегацию. Шестерых. Самых способных разъяснить мне все дело. Посмотрим, что можно сделать.
Разворачивается и уходит.
Клавдия переводит.
Девчата смотрят друг на друга, ушам не верят. Вот видишь! Не зря боролись! Спокойно они выбирают шесть представительниц. Прежде всего, разумеется, пойдет Таня, а потом, чтобы придать веса и серьезности, две старушенции, которым за сорок: Надежда, учительница, и Зоя Рябая, из колхозного начальства, с телосложением борца и сердцем мидинетки. Еще пойдет и Наташа, та, что училась на инженера, Шура-Большая, Шура-Маленькая. И ладно. Вот шесть и вышло.
Делегация отправляется к герр Мюллеру. Таня идет во главе, неся обеими руками пробную порцию «шпината». В ожидании их возвращения работа возобновилась. Утренняя смена хочет остаться во дворе, но веркшутцы гонят девчат, разводят их по баракам.
Больше уже никто не поет. Время идет и идет. Беспокойство начинает щипать меня за кишки. Мария работает молча, сжав губы. Семь или восемь веркшутцев прохаживаются вразвалку в проходах между станками, подтрунивая над девчатами, — вообще-то это запрещено, но тут все знают друг друга, я уверен, что даже на каторге вертухаи наверняка чешут языком с зэками, а как же! Некоторые веркшутцы с трудовыми увечьями, с культями, то там, то сям, поэтому они и заделались заводскими фараонами, над которыми царит святая святых, гестапо, жирные и розоволицые, они не пойдут на войну. Как правило, девчата беззлобно издеваются над ними, говорят, чего это ты болтаешься тут, здоровый мудила, езжай на фронт, чтобы тебя там прикончили, сознайся, нарочно, небось, сунул руку в станок, а ведь знаешь же, твой фюрер сказал, что он и безногих пошлет на фронт, в танке-то ноги зачем, а раз у тебя хоть одна есть, враз генералом назначат, большую фуражку получишь, будешь бежать вприпрыжку перед танками, будешь кричать: «Вперед! Давай-давай! Мин нет!» В общем, такого рода издевки. Парни отвечают в том же тоне, не церемонясь. Но если кто-то из них начинает лапать девчат, те подпрыгивают, как ошпаренные, кшикают: «Оо, ty, cholera!», — врезают им по мордасам чем ни попадя, озверев от злобы, ну просто тигрицы! Веркшутц увертывается и ржет. Стыдливы они, эти расы! Но не злопамятны. Их сокрушительный гнев быстро проходит.