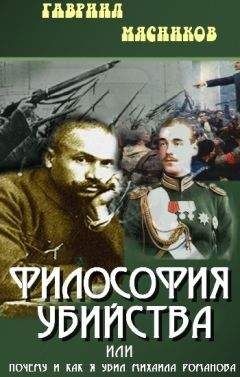— Зачем? Кому они нынче нужны?.. — покачал головой грузчик.
— Как это? Да чтобы просто показать людям — вот, эти руки умеют поднимать и сносить вниз любимые вещи. Ведь каждый человек любит что-то… разве не так?
— А ты, Эманек, сам-то ты что любишь? — поднял на него глаза пан Альфред Бер.
— Я пианино люблю. Я на нем больше не играю, потому что то, что я смог сыграть, мне не нравится, а то, что бы я сыграть хотел, мне уже не одолеть. А пианино нужно переправить к моей сестре в Высочаны. У нее мальчишка растет, пускай теперь он на пианино играет. И между нами, пан Альфред… Могу ли я доверить любимый инструмент незнакомым грузчикам? Редчайшее фортепиано марки «Георгесвальде»?
— Тебе так дорога эта вещь? — оживился пан Альфред Бер и даже улыбнулся. — Ну, так вот что я тебе скажу, я это твое пианино собственными руками перевезу! Только чтобы ты был при этом и видел, на что способны эти вот руки! Когда мне прийти?
— Олимпия, два рома — за мой счет! — заказал Эманек, подумал немного и сказал: — Да хоть завтра. В четыре я вернусь из Кладно со смены, так что в четверть пятого. Заметано?
— Заметано! — воскликнул пан Альфред и утопил в своей лапе ладонь Эманека. — Ты своими глазами увидишь, как бережно я этими вот руками и на собственном горбу вытащу твое пианино на улицу!
Когда оба выпили, грузчик сполз с высокого табурета и пробормотал себе под нос:
— Каждый человек хоть что-нибудь да любит..
— Точно, — улыбнулся Эманек, глядя вслед пану Беру, который, пошатываясь, брел через танцпол, где пока еще никто не танцевал, потому что музыка начинала играть только после девяти.
— Эманек, — начала Олимпия, — Эманек, вот вы мужчина образованный…
— Гм. Четыре класса гимназии.
— Неважно, вы всегда в курсе дела, и у вас есть чутье, Йозка говорит, что где-то внутри вашей души трепещет привязанный за лапку к нитке жаворонок… Я сейчас вспомнила, как Йозка однажды на пляже вытащил исписанные листки и сказал: «Вот, Олимпия, гляди, это мой друг написал, я тебе сейчас почитаю». И я лежала и смотрела в небо, а он читал мне разные рассказы.
— Что за рассказы? — спросил Эманек и допил рюмку.
— Один я до сих пор помню. — Барменша дохнула на стакан и принялась протирать его салфеткой. — Как в конце войны немцы везли из Ораниенбурга поезд, полный женщин из концлагеря. Американцы расстреляли с самолета паровоз, ну, и вагонам тоже досталось, так что эсэсовцы разбежались. Женщины выбрались наружу и ушли в лес, и две еврейки, раненные осколками, выкопали ямы в опавшей хвое, спрятались в них и присыпали себя сверху иголками. Они слышали, как по лесу бегают солдаты с собаками, но их все-таки не нашли. И еврейки пролежали в лесу до следующего утра, а когда они уже совсем приготовились умирать, то услышали чешские голоса. Женщины закричали, и оказалось, что рядом проходили парни-ремонтники с железной дороги. Они их из ям вытащили, перевязали и ночью спрятали в своем бараке. Когда приблизился фронт и началось повальное бегство, один чех по имени Пепик уложил раненую еврейку на тележку и поволок аж в самый Будишин. Там они переждали, пока через них перекатится фронт, и двинулись дальше.
— Олимпия! Олимпия, а как это было написано? Как о ком-то чужом или так, как если бы тот, кто писал, сам это пережил?
— Так, как кто-то рассказывает историю, что приключилась с ним самим… Ах я дурочка! Теперь мне все ясно! И как это я сразу не догадалась?! — хлопнула она себя по лбу. — Он же это сам написал!
— Ну разумеется, — насмешливо согласился Эманек. — Давайте-ка я вам сейчас дорасскажу эту историю, ладно? Этот самый Пепик дотащил тележку до Ческой Липы, а там передал еврейку Красному Кресту. И целых четыре года она ждала, что ее герой вот-вот объявится у нее дома, но Пепик не дал о себе знать, и тогда она вышла замуж. Попрошу счет.
Эманек умолк и больше уже не поднимал на Олимпию глаза.
— Эманек, Эманек, что с вами? Ну что вы? — она взяла его за руку, но Эманек чувствовал, что прикасается она к нему единственно из сострадания. Он совсем было собрался рассказать ей, что Пепик — это он сам, Эманек, что это он тащил на тележке раненую девушку-еврейку, а потом рассказал все Йозке, но когда он отважился взглянуть на Олимпию, то увидел, что если скажет сейчас хоть слово правды, она почти наверняка погрустнеет еще больше. И потому он произнес как можно веселее:
— Когда помиритесь с Йозкой, передавайте ему от меня привет!
Эманек быстро прошел через зал и спустился в кафе. Взяв себе содовой с гранатовым соком, он подсел к старухе, знакомой ему сызмальства.
— Ну что, бабушка, как жизнь?
— Хорошо, — ответила она. — Сегодня здесь хороший суп. Только горячий. А ты, Эманек, по-прежнему ездишь в Кладно?
— По-прежнему, бабушка, по-прежнему.
— Слушай, а как у вас нынче кормят?
— Это вы про заводскую столовую, да?
— А про что же еще? Какое у вас там меню?
— Да вот, бабушка, в понедельник у нас суп а'ля Польди, жаркое а'ля граф Строганов и шоколадные пирожные. По вторникам чаще всего суп а'ля сельхозкоммуна и шницели по-венски с кнедликами.
— Гм. Что ж, значит, получше стало. В наше время так не кормили. Я семерых детей поднимала, да еще урывала время, чтобы ходить обмывать покойников.
— А я, бабушка, и не знал об этом.
— Ну да. Маленькие дети и люди при смерти — это же одно и то же. Иногда те и другие обделываются от страха перед будущим. А чем вас кормят по средам?
— Воловьим языком под польским соусом. По четвергам гуляшом а'ля граф Эстергази, а по пятницам нам подают мой любимый кофе по-домашнему и булочки. А вы, бабушка, не боялись мертвецов?
— Эх, мальчик мой, да я, когда молодая была, ничего на свете не боялась. Я брала топор и шла в темноту, даже если там скрывались грабители. Но однажды я все-таки перепугалась. Тогда в деревне умерла одинокая старуха, а мороз был такой, что деревья трещали, и вот приехали мы туда, поставили на скамью гроб, и рабочий, которого звали Франта, откинул одеяло и говорит: «Тащи-ка сюда молоток!». Я вышла наружу, и тут как раз прикатил наш начальник на велосипеде. Я ищу в ящике молоток, а начальник вдруг вылетает в сени, как ошпаренный, кричит: «Она встает!» и мчится сломя голову куда-то в поля… Я сжала покрепче молоток, и это придало мне силы. Вхожу я, значит, внутрь, и нападает на меня ужас. Хорошо еще, что я за молоток держалась. А что у вас бывает по субботам?
— Рубленое мясо с картофельным гарниром и песочные пирожные. Но бабушка…
— А суп? Эманек, суп-то какой?
— Из рубцов. Дальше-то, бабушка, дальше что было?
— Ну, вошла я, значит, и вижу, что наш Франта наклонился над кроватью и нажимает покойнице на колени, а она от этого словно бы встает.
— А вы что же, бабушка?
— Я вскрикнула. А Франта голову повернул, увидел, что делается, оттолкнул меня от двери — и только его и видели. Но я держала молоток, и это придавало мне силы.
— Бабушка, ну вы и молодец!
— Да, это мне уже говорили… а чем вас кормят по воскресеньям?
— Когда-когда, бабушка? Это вы о чем? А, по воскресеньям? Чаще всего нам подают пюре, шницель по-парижски… но бабушка…
— А суп какой?
— С лапшой, праздничный, и в нем плавают куски мяса. Ешьте, бабушка, у вас же суп остывает.
— Ладно-ладно… значит, с лапшой? Я такой люблю! И говоришь, мясо плавает?
— Плавает.
— А ты не обманываешь меня, Эманек?
— Зачем мне? Говорю же — куски мяса.
— Я тебе верю. А тогда как было-то — я подошла к кровати и заглянула покойнице в лицо. А потом смотрю — она же точь-в-точь как колыбелька, ноги под себя поджала. Так случается, когда одинокий человек умирает в мороз. Сворачиваешься клубочком, и кто, Эманек, разогнет потом твое тело? Вот и я тоже, если доведется умереть в мороз, буду лежать скрюченная. Я ведь тоже совсем одна, Эманек…
— Но как же, бабушка, вы всегда с кем-то. Вы вроде говорили, что у вас семеро детей?
— Семеро, да что-то ни один больше весточки не подает…
— Тогда знаете что, бабушка? Я скажу маме, и она к вам будет иногда заглядывать.
— Как же это хорошо, Эманек, что ты ко мне подсел и начал про еду рассказывать. Знаешь, жизнь научила меня таким вещам, о которых в книгах не пишут. Я, конечно, тебя давно знаю, знаю, что ты негодник, но людей ты любишь… Так твоя мама и правда будет ко мне заглядывать?
— Я скажу ей, бабушка. Честное слово, скажу. До свидания.
— До свидания, до свидания… — бормотала старуха, медленно хлебая суп.
Гастон Кошилка уже довольно долго стоял перед освещенным «Лучом». В который раз глянув на свое отражение в витрине, молодой человек вновь убедился в том, что и так знал уже давно: сам себе он совершенно не нравится, потому что внешность у него абсолютно заурядная, а после кино он выглядит еще хуже, чем до него. В витрине отражалось его лицо, и не приходилось сомневаться в том, что с такой фигурой нельзя быть тем, кем бы ему хотелось. Фанфан-Тюльпаном.