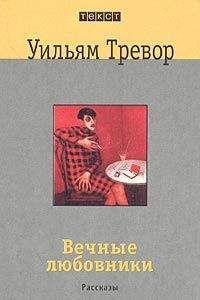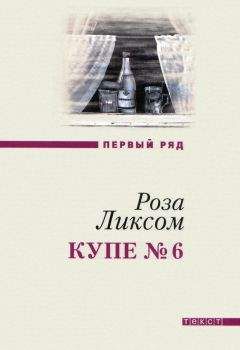ВОСКРЕСНЫЙ ПРИЕМ
В парке не было никого, даже кошки. Свежий утренний воздух еще не смешался с лондонским, в жилых домах было тихо, как на кладбище. Половина восьмого утра. Воскресное июньское утро. В рабочие дни в это время отовсюду уже слышались голоса, по парку спешили к метро люди, начинали ходить автобусы. В рабочие дни Малькольм еще лежал в постели и собирался с силами.
Еще не бритый, в светло-бежевом халате поверх полосатой — в красно-синюю полоску — пижаме, он прошелся по крикетной площадке, мимо белых крикетных ширм и небольшой беседки. Этого средних лет, лысоватого человека в очках нельзя было назвать чудаком, однако он часто воскресным утром доходил, как был в халате, до самой межи, вдоль которой выстроились в ряд тополя.
Приблизившись к ним, он повернулся и медленным шагом направился обратно к дому, в котором жил с Джессикой, своей женой. В этом доме, эдвардианском строении из темно-коричневого кирпича, обсаженном побегами дикого винограда и лавровыми деревьями в кадках по обе стороны от входа, они жили с тех пор, как он стал преуспевающим адвокатом. Семья у него была небольшая: в комнате на втором этаже жил, никому не доставляя особых хлопот, сын Малькольма и Джессики.
В кухне Малькольм дочитал восьмую главу «Эдвина Друда» и тут услышал, как привезли воскресные газеты. Он пошел их забрать, пробежал глазами заголовки, после чего сварил кофе, поджарил тосты и отнес поднос и газеты наверх жене.
— Я принесла тебе чашку чая, — сказала Джессика, входя в комнату сына. Иногда он сразу же выпивал чай, а иногда, возвратившись в обеденное время домой, она обнаруживала, что полная чашка так и стоит на столике у его кровати. Сам он никогда не относил на кухню чашку и блюдце и, недовольный собой, возмущенно тряся головой, за это извинялся.
Когда она сказала ему про чай, он ничего не ответил, лишь долго с неподвижной улыбкой на нее смотрел. Одна рука воздета к бородатому лицу и стиснута в кулак, ногти обкусаны, пальцы обгрызены. В комнате пахло потом — он не выносил, когда открывали окно, даже занавеску не давал отодвинуть. Свои авиамодели он конструировал при электрическом свете, предпочитая его дневному. Комната была заставлена моделями самолетов: «Харрикейнов» и «Сптифайров», гидропланов и «Хейнкелей-178»; ни одна модель закончена не была. Месяц назад, 25 мая, они попытались отпраздновать его день рождения — ему исполнилось двадцать четыре.
Она закрыла за собой дверь. Стены, и не только на лестнице, были обклеены обоями в ярко-красных маках и подсолнухах. Когда Джессика открывала дверь, ведущую в холл, гости часто отмечали их «пасторальную свежесть», некоторые от ярких цветов даже жмурились. Раньше вид у холла, выкрашенного в темно-коричневые, цвета мясной подливки, тона, был мрачноватый, теперь же двери и плинтусы сияли первозданной белизной.
— Давай не пойдем к Морришам, — предложил Малькольм, когда она спустилась на кухню, хотя сам уже облачился в светлый костюм, в каких ходят в гости воскресным утром на бокал вина.
— Не пойти мы не можем — сам знаешь, — отозвалась она, хотя к Морришам тоже идти не хотела. — Готова буду через минуту.
В уборной на первом этаже она подкрасила глаза. Без косметики ее худое, осунувшееся лицо выглядело каким-то вялым. Моему лицу, как и стенам в холле, яркие цвета не помешают, подумалось ей. Она подкрасила губы и промокнула их, чтобы снять излишек помады, бумажной салфеткой, после чего еще раз придирчиво взглянула на себя в зеркало над умывальником — не слишком ли густо накрашены ресницы. Темные, начинающие седеть волосы, глубоко посаженные лучистые синие глаза, блеск которых до сих пор придавал всему ее облику какую-то особую красоту, преображали ее. «Один только блеск и остался», — сказал кто-то однажды, обратив внимание на ее измученное лицо.
Вернувшись на кухню, она включила вытяжку над электрической плитой, где в духовке жарились свиные котлеты.
— Пошли? — сказала она, и Малькольм — он в это время рассматривал рекламу фотохромных линз — кивнул и встал.
А их сыну в это время снилось, что он находится на берегу реки. Над водой летают птицы с синими перьями, где-то за деревьями бренчит гитара. Его друзья, как и он, лежат на берегу в разноцветных спальных мешках. Все они счастливы, потому что там, где Индия, — нежность и красота, там, где Индия, — истина. Кто-то произнес эту фразу, и все согласились.
В этот раз у Морришей была Антеа Чалмерс — высокая, в элегантном зеленом платье, давным-давно разведенная. Вылитая Бетт Дэвис: глаза, как суповые миски, и такой же рот. Были и Ливингстоны, и Сюзанна и Дэвид Мейдстоуны, и Анвины. Приехал и мистер Фулмер, человек с желтым, одутловатым лицом, которого все жалели: его жена, существо вялое и бесцветное, предпочитала сидеть дома и никому не показываться. Встретили они и Тома Хайбенда, и Тейлор-Дитов, и Маркуса Стайра с приятелем. Было несколько человек, которых Джессика и Малькольм видели впервые.
— Привет, привет! — крикнул им с широкой светской улыбкой хозяин дома. Из гостиной гости с бокалами в руках выходили через стеклянную дверь в сад. Морриши — у него розовое, добродушно-одутловатое лицо, она со следами былой красоты — внимательно следили за тем, чтобы все гости имели возможность выбрать вино по вкусу. В саду школьник из Франции, устроившийся к Морришам слугой для изучения языка, предлагал гостям орешки и похожие на отполированные кусочки дерева японские печенья. Дети — хозяйские и пришедшие с гостями — собрались в дальнем конце сада, у сарая с садовыми инструментами.
И Джессика, и Малькольм взяли по бокалу белого вина — уж очень аппетитно выглядел летним утром ряд запотевших бутылок. С Морришами, которым явно хотелось, прежде чем вступить в беседу, всех поприветствовать, они обменялись лишь парой вежливых фраз и вышли в сад, поражавший воображение яркими, только что распустившимися цветами и коротко подстриженным газоном.
— Привет, Джессика, — сказал приятель Маркуса Стайра, невысокий, плотный молодой человек в синем блейзере. Он сообщил, что испек яблочный пирог, и сокрушенно покачал головой, давая этим понять, что на сей раз пирог не удался.
— Салют, таинственный незнакомец, — сказала Малькольму Антеа Чалмерс.
Она почему-то всегда его выделяла. Уже очень давно он отказался от мысли, что лысеющий адвокат в очках может представлять для нее хоть какой-то сексуальный интерес, и это при том, что с ним она говорила исключительно на сексуальные темы. Она имела обыкновение — точно так же, как сейчас, — уединяться с ним где-нибудь в углу, отгоняя всех, кто пытался к ним присоседиться. Она притиснула его к стене дома, увитой кремовой жимолостью. Справа от них тянулась решетка, за которую жимолость была убрана, слева стояли две старых кадки с дождевой водой, увитые фиолетовым ломоносом.
— Грязная свинья, — сказала она, имея в виду человека, за которым когда-то была замужем. — Я ему так и сказала, Малькольм: чем с тобой, я лучше со свиньей в постель лягу. Можешь себе представить, какой он крик поднял.
Джессика обсудила с приятелем Маркуса Стайра рецепт пирога с яблоками и, улыбнувшись ему на прощанье, двинулась дальше. Школьник из Франции предложил ей японское печенье, а затем какой-то незнакомец заговорил с ней о погоде. Что может быть лучше, сказал он, пары бокалов вина воскресным утром в залитом солнцем лондонском саду? Это был мужчина в бежевом замшевом костюме элегантного покроя, свободно на нем сидевшем и скрывавшем небольшое брюшко. Казалось, что слезятся у него не только глаза, но и усы. У него были тяжелая челюсть и загорелый, по цвету почти не отличавшийся от его замшевого костюма, лоб. Бизнесмен, решила Джессика, ужасно, как видно, богатый, в деловом мире котируется, надо думать, выше некуда. И тут он начал рассказывать ей про свой дом под Эстепоной.
На поверхности чая, который Джессика принесла сыну, образовалась пленка, и в ней теперь запуталась муха. Больше в комнате ничего не происходило. Дыхание спящего было едва слышным, сон про птиц с синим оперением внезапно прервался, и тут, с той же внезапностью, какой вообще отличалась жизнь юноши, его глаза широко раскрылись.
В его сознание ворвались «Спитфайры» и «Хейнкели»; едва различимые в полумраке комнаты, они со сна показались ему гигантскими. Я — в комнате с аэропланами, сказал он себе, продолжая лежать. Пока он лежал, ничего больше в его мозгу не отпечаталось. Наконец он встал и начал одеваться. Он медленно натягивал джинсы на свои белые ноги, а по его юношеской бородке, редкой и мягкой, прямо как у бородатой женщины, бежали слезы.
Надпись «Прочь» на его бледно-голубой майке, словно бы охранявшая его от всех на свете молний и таящихся под капюшонами Бэтменов и Робинов, почти совсем стерлась. Смысл этой шутливой надписи заключался в том, что за эти годы было слишком много шуток, будто никто не желает взрослеть и навсегда хочет остаться ребенком. С бородки слезы капали на майку и джинсы. Он включил свет и, тут только заметив, что у кровати стоит чашка с чаем, залпом выпил чай вместе с образовавшейся на поверхности пленкой и застывшей в ней мухой. Слезы его ничуть не огорчали.