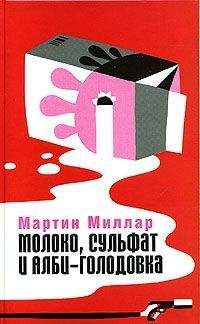— А я? Что я?.. Когда вдруг встречаю на улицах Виры какую-нибудь юную красотку, и она смотрит на меня обжигающим, как говорится, взглядом, я говорю себе стихами Лермонтова: нет, не тебя так пылко я люблю… не для меня очей твоих сиянье… люблю в тебе я прошлое страданье и молодость погибшую мою… — Он хмыкнул и протянул стакан: — Еще!
Выпив, Туровский замолчал. Я спросил:
— А вот Левка… в своей летописи… он какие-то имена заменил… специально напутал… Татьяна Викторовна — это Аня?
— Какая разница! — вдруг раздраженно ответил Валерий Ильич и резко поднялся. Мне показалось, что он уже сердится на себя, что лишнего пооткровенничал.
В это мгновение в окно ударил свет подъехавшей машины, было видно, что под дождем к бараку бегут две черные фигуры… Наверное, со свадьбы — за нами.
— Иди… — проскрипел сквозь зубы Туровский. — Никого не хочу видеть. — И снова сел на визжащую койку, закрыв лицо ладонями.
27
Я вышел в коридор и при неверном свете, бьющем через мокрое окно первой комнаты, увидел входящего в барак Никонова, а за ним Ищука.
— Где он? — хрипло спросил Сергей Васильевич и, уловив мой кивок, прошел к Хрустову.
— Где Валера? — негромко осведомился Ищук и, заметив свет фонарика во второй комнате, шагнул туда.
Никонов постоял-постоял, высясь над валяющимся на койке другом, и начал звонко хохотать.
Хрустов не отвечал.
— Ну, йотыть!.. — перевел дыхание Никонов. — Что за глупость удумал!.. Лег на вшивые тряпки и думаешь, что герой. Ты один помнишь, ты один любишь!.. Ты видел, Родя?
Я неопределенно пожал плечами. А Хрустов никак не откликался.
— Галя сказала, ты не первый раз сюда уходишь жить… сейчас привезут чистое белье, подушки. — Сергей Васильевич снова заржал. — Н-ну, базар! Я попросил и мне. И закуски!
— Иди к черту… — не выдержал Лев Николаевич. — Здесь тебе делать нечего.
— Это почему же?! — Никонов опустился на соседнюю кровать. — Лёвка! А? Здесь и я жил. Вон там Иван Петрович спал. Здесь Алёха-пропеллер… а здесь…
Говори, что еще надо? Сейчас привезем. Родя! — Никонов обернулся ко мне. — Ты думаешь, мне слабо здесь переспать прямо в этом костюме, при орденах?!
Так как Хрустов снова молчал, я буркнул:
— Думаю, не слабо.
— Слышишь, Лёвка! Он наш человек. Мы его можем в нашу бригаду принять. Комнат много. — И Никонов снова зазвенел визгливым, женским смехом.
— И ему здесь делать нечего! — вскинулся, сел на койке Хрустов. — Всё ходит, запоминает…
Мне показалось, что он снова с ненавистью смотрит на меня.
— Ишь, в музее сидит… а не лучше сначала в крематории? А уж потом оттуда горшочки: Хрустов, Сахаров…
— Какой Сахаров? — не понял я. — Крановщик?
— Да великий Сахаров. Ученый, — пояснил, задыхаясь от смеха, Никонов. — От скромности Левка не умрет.
— Уходите!.. — зарычал Хрустов и лег, перевернувшись лицом вниз. — Какой ученый?! Шофер Дима Сахаров, он вместо Васьки-вампира потом работал на износ…
— Ну, прости… Я же шучу. — И Никонов заговорил тихим, проникновенным голосом. — Йотыть!.. Так же нельзя, Лёвка! Ну, кого ты переделаешь своими речами?! Жизнь идет вперед… если даже не всё правильно, а я тоже согласен… не остановишь! Зачем остатки сердца рвать! Мы и так, блин, отдали здоровье в этом сыром каньоне, на мокром бетоне, как в бане, блин!.. И теперь еще гробить?..
Лев Николаевич не отвечал. Я слышал, как в соседней комнате Ищук что-то быстро, как пулемет, говорит Туровскому. Слышались смутные слова «акции», «эмиссия»… «обводной канал»…
— Лёвка, слышишь? Старая дружба не стареет. Хочешь, я вот этот орден, ну, не церковный, а этот… сейчас на х… в Зинтат закину? Хочешь?! Ну, что ты хочешь? Юность не вернуть. Сейчас всё другое. Но я согласен… нашей молодостью можно гордиться… Мне показали твою летопись… Ты молодец!
— Какую летопись?.. — простонал Хрустов. — Я ее сжег… — Он повернул голову. — Если Илюха, штрейкбейхер…
— Да там пара страниц… — нашелся Никонов, замахал руками. — Сын из урны вытащил… черные… зря спалил! Дописал бы! Вот твое дело! Вот твоя миссия! Может быть, восстановишь?
— СССР восстанови… — пробормотал Лев Николаевич, кусая белесые губы. — Как ты не понимаешь, если нынче такое зверство, значит, всё, что я написал тогда, — ложь. Ослепительная ложь. Был слеп.
Никонов развел руками — словно орел взмахнул крылами.
— Это что же, если сегодня упадет матеорит, значит, ты виноват… не смотрел внимательно на звезды? Смешно, да, Родион?!
Обиженный словами Хрустова в свой адрес, я смолчал.
— А мне жалко, — продолжал Сергей Васильевич. — Прочел эту пару страниц — будто в ледяную воду окунулся… это где ты описываешь семьдесят восьмой, семьдесят девятый, помнишь зиму? Только Зинтат перекрыли, — Никонов снова повернулся ко мне за поддержкой, — вдруг перед плотиной вода… а мороз сорок три с ветром… как будто кто донные перекрыл. Труханули же тогда.
Хрустов сопел, только ботинками дернул.
— Хотя, конечно, он во многом прав, — Никонов продолжал рассказывать как бы мне. Хотя, конечно, желал сейчас одного — вернуть именно в Хрустове чувство доверия к себе. — Мы-то были пацаны… а начальники смотрят: мешает гора вести дорогу до створа — взорвать! А потом оказывалось: взорвали белый мрамор… если бы его умно распилить да продать, выручили бы денег на две ГЭС! — Никонов вдруг тоненько засмеялся. — Про наших девочек он хорошо… только имена зачем-то поменял… — И заметив, как Хрустов напрягся (наверное, уже понял, что не две-три странички попали в руки Никонова!), Сергей Васильевич начал говорить во все горло, думая привлечь, как я сообразил, к разговору коллег из соседней комнаты. — Там у тебя хорошо, как сначала в палатках жили, в трехслойных, с железными печурками, на брезенте фотки артисток. Помнишь, при свечках, под гитару, песню про сиреневый туман? Старались, как Высоцкий, чтобы с хрипом! Дурень, что сжег! Давай я тебе зарплату буду платить пять тысяч в месяц. А ты сядешь и напишешь заново. Сможешь?
Хрустов в сумраке, с великой печалью, искоса глядел на старого друга.
— Сергей, ты пьян? О чем ты говоришь? Народ страдает!
— Да ну тебя! «Народ»! — Никонов вдруг осердился и вскочил. — А мы с тобой не народ?! Ты вот инфаркт заработал… а будешь дальше печенку свою грызть — помрешь, Лёвка! — Он вдруг закашлялся, да так гулко, страшно, что я подумал: не простудился ли он. — А если уж… если отдали здоровье нашей… дорогой ГЭС… надо же, братеник, чтобы хоть кто-нибудь и спасибо сказал в старости. — Он поколотил себя кулаком по груди, сипло перевел дыхание. — И это возможно, если не будешь вести себя, как пацан. «Я маленький, я честный, я в стороне». — И наклонившись, жарким шепотом. — Не оставляй нас с Валерой на съедение олигархам! — Никонов оглянулся на проем без двери и еще тише зашептал. — Ведь кто такой Ищук в сравнении с нами? Пацан. Но за ним танки, мля… битком набитые долларами… ты меня понимаешь? А зачем он подарки твоему сыну дарит?
— Мы вернем… — буркнул Хрустов и сел на кровати, растирая себе уши. — всё вернем.
— Дело не в еньтем! Дареному коню в зубы не смотрят.
— А если шибко большие зубы? — отрезал Хрустов.
— Я о другом! Зачем он хочет с тобой дружить? Об этом подумал?
— Со мной?! — простонал Хрустов. — Брось дурака валять, Серега. Ему Утконос нужен. Слышишь, балаболят… Он не Илюхе подарил — он семье Валеры подарил!
— Погоди! — Никонов снова оглянулся на порог и негромко продолжал. — Лёва. Я так серьезно еще никогда не говорил с тобой. Лёва, если мы вместе объединимся… нам черт не брат… Как объединиться? Об этом потом. Но верь мне: ГЭС я Москве и Лондону не отдам. — Он отошел к выходу и вернулся, небрежно задев меня в сумраке мощным плечом. — Но сына не обижай. Он мне сказал: хочешь, мы с Инкой уедем к вам, дядя Сережа. А что, я бы их принял. Он классный инженер, она знает языки. А у нас япошек всяких с утра до ночи… переговоры… ля-ля… это деньги… Что молчишь?
Послышались шаги. Это был Ищук.
— Я поехал за дамами.
— Хорошо, — кивнул Никонов. — А я с Валеркой рядом там поваляюсь. Это наше жилье, Тарас Федорович. — С нажимом произнес он. — Тут всё наше!
— Понимаю, — медленно улыбнулся Ищук. И ушел.
Машина под окнами взвыла и укатила сквозь серый светящийся дождь…
28
Мы с Хрустовым остались одни. Я продолжал стоять около зияющего чернотой выхода из комнаты, ощущая себя чужим, презренным соглядатаем. Днем я уеду, конечно.
Но Лев Николаевич понимал мое состояние.
— Родион, не сердитесь… наверно, я сошел с ума… порой не знаю, что говорю…
— Ничего. Я же люблю вас всех.
— Всех?.. — хмыкнул Хрустов, сверкнув на меня взглядом. Он поднялся, отошел к окну.
Но я не стал подробно объясняться или оправдываться, почему и кого люблю. Вдруг да снова Лев Николаевич начнет кипятиться, рвать себе душу.