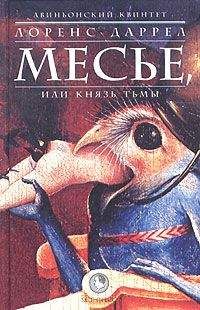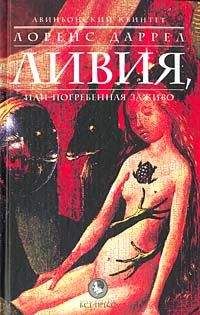Двое чумазых нечесаных дервишей, весьма жалкие, придерживали для идущих двери, при этом следили за нами не хуже мастиффов. Было такое впечатление, что им отлично известно, кто член секты, а кто нет, впрочем, возможно, мне просто показалось. Нас ведь они точно видели впервые, однако махнули рукой, приглашая войти вместе с остальными. По узкой темной лестнице мы поднялись в главную часть маленькой мечети — в просторную комнату, скудно освещенную ночниками, заправленными оливковым маслом. Из-за темноты потолок казался очень высоким, почти как небо, а наши фигуры будто бы стали меньше, словно тут же частично растворились во тьме, из которой только что явились.
Сама церемония была очень простой: действительно, как и говорил Аккад, она напоминала теологическую лекцию каирского шейха. Аккад уселся посреди комнаты на ковер и подушку. Перед ним стоял низкий деревянный инкрустированный столик. Справа и слева были еще два стола и еще две подушки — для помощников, то есть для слепого старика в белой аббе и смуглого бородатого мужчины средних лет в мятой пиджачной паре, но без сорочки. Он держал в руке пачку текстов и книгу, в которые то и дело заглядывал, отчего напоминал суфлера, слепец же походил на странствующего «поющего» проповедника, или на церковного служителя, или на ризничего. В общем, он был из тех, кого всегда можно при случае нанять для чтения сур Корана. Сначала уселись они, а мы расположились полукругом напротив них, следуя вполне определенному порядку, хотя нами никто не руководил; поближе к троице сели те, кто считал себя активным членом секты, мы оказались в последнем ряду, позади всех, мы ведь были только «потенциальными соратниками», по определению Аккада.
Сам он, заняв место в центре, снял очки и сложил перед собой руки, мечтательно глядя во тьму. Мы тоже молчали, опускаясь на колени или усаживаясь. Свесив голову на грудь и почти не дыша, словно он настраивался на концертное выступление, слепец ждал сигнала. Неряшливый бородач сверялся с текстами и, откашлявшись, наконец сухо объявил тему: из «Pistis Sophia»,[54] но, честное слово, он сделал это так, словно сейчас прозвучат отрывки из календаря погоды. Опять наступила тишина. Похоже, Аккад молился, потому что поднял вверх сомкнутые ладони, раздвинув длинные пальцы. Чуть погодя он подался вперед и постучал по инкрустированному столику. Радостно вздохнув и улыбнувшись, слепой старец поднял голову и — с преобразившимся, полным святого благоговения лицом — начал свой медленный и мелодичный речитатив. Услышав первые фразы, Аккад и второй помощник тоже улыбнулись — так, наверное, улыбаются музыканты, которым предстоит интерпретировать давно известное и любимое сочинение. К моему великому удивлению слепец читал по-гречески, и пока слышался только его голос, остальные двое лишь шевелили губами, словно лаская безупречные отточенные фразы. А удивился я (в ту пору мало что смысливший в подобных тонкостях) потому, что Аккад дал нам понять, будто список Pistis Sophia принадлежит коптам и написан на их языке. Так оно и есть, но только коптский список — это перевод с греческого, то есть нам читали подлинный текст, в его первозданном виде. Пьер, получивший отличное образование, сказал потом, что почти все понял. Я — нет. Речитатив сопровождали комментарии Аккада на французском и английском языках, комментарии эти были подчеркнуто неформальными, но предельно почтительными, как если бы речь шла о великой поэзии или великой музыке. «И настало время Иисусу восстать из мертвых, и одиннадцать лет он пробыл со своими учениками, обучая их всему вплоть до Первой Заповеди, до Первого Таинства, и тому, что по ту сторону Завесы, внутри Первой Заповеди, которая есть двадцать четвертое Таинство вне и ниже — эти двадцать и четыре расположены во втором пространстве Первого Таинства, что превыше всех Таинств — Отец в обличье голубя». (Позднее мне попал в руки перевод теолога Йозефа Меда, потом другие, в «Брукланском кодексе»[55] и подобных ему источниках, и я смог сам немного разобраться в причудливой посмертной истории Иисуса.)
Необычность действа заключалась в отсутствии всякой претензии на непогрешимость у говоривших и в удивительной ясности того, что мы слышали, осмысленной ясности — а ведь в случае полного незнакомства аудитории с терминологией, как, например, было со мной, текст должен был восприниматься как нелепая тарабарщина. Но не мне судить, в какой степени остальные постигали монотонный речитатив. Все сидели, опустив головы, однако поднимая их всякий раз, когда Аккад прерывал слепца своим сухим стаккато. В его голосе звучала еле сдерживаемая, несвойственная ему в обычной жизни, страстность. «Чем больше вы узнаете о человеке, тем меньше миритесь с положением человечества, оказавшегося под игом Князя Тьмы». Страшное раздвоение перевернуло рациональное устройство во вселенной — вот что он имел в виду, дошло до меня позднее. Тот, кто грубо вмешался в дела первого властителя, заняв его место, внес сумятицу в действие космического закона. С тех пор, как явился Черный Князь, все переупорядочено, переосмыслено, переделано. «Греки говорили: «То, что существует, неправедно, но прекрасно».» Однако красота не оправдание. Красота — ловушка. Мы говорим: «То, что существует, неправедно, но это и есть реальность».
Прошло много времени, прежде чем я понял мысль Аккада. Все сводилось к тому, чтобы непредвзято посмотреть на главную трагедию реального мира, окончательно и четко осознать — нет никакой надежды, пока не будет свергнут узурпатор Божьего престола, но как это сделать, похоже, никто не знал. Если бы в ту свою первую встречу с гностиками я понял бы больше, то впал бы в такое же неодолимое отчаяние, какое, вероятно, терзало их. Безысходность происходящего преследовала бы меня непрестанно, что и случилось позднее. Аккад трактовал это, как «окончательную смерть Бога», ибо князь-узурпатор разделался с первым властителем, чье правление олицетворяло не диссонанс, а гармонию и согласие в природе. При том, первом властителе, прекрасно осознавали, что есть рождение и что есть смерть; душа и плоть, зверь и малая букашка, человек — все в сущем мире объединялось в животворном симбиозе света и справедливости — о чем и мечтать нельзя с тех пор, как престол занял Князь Тьмы.
Далеко не все мне было ясно — разумеется, нет; однако время от времени я почти интуитивно улавливал смысл произносимых слов, словно мне читали текст на языке, который я плохо знал, и длинные куски, ничего мне не говорившие, изредка перемежались тонкими лакомыми прослойками понятных фраз. Пророческие вставки Аккада часто были удачными и даже блистательными. «Кто эти люди? Они рождены и возрождены, в отличие от Большинства. При встрече они узнают друг друга без слов. Они принадлежат головокружительному «ничто», выросшие из корня несогласия. Сокровенная суть их души стремится к луне небытия, их Бог — тот, кого больше нет. Они даже не надеются на понимание! Довод бессилен — на этом уровне понимание может быть лишь бессловесным, беззвучным, бездыханным. Его значение так же сомнительно, как сама реальность». Странно через столько лет читать эти фразы и тем более так хорошо помнить обстановку, в которой они были произнесены. Даже не закрывая глаз, я вижу, как он сидит в своей поношенной аббе, вдруг заметно постаревший, и чуть ли не со слезами в голосе произносит свои откровения. Притихнув, прелестные, похожие на спелые плоды, женщины слушают его, одни — в вечерних платьях, другие — в пестрых шалях, но все умиротворенные, как будто отведали заветное яблочко.
Это была не только литания, но и некий ритуал, потому что раза два мужчина с повадками суфлера задувал свечи и вновь зажигал их, словно обозначал паузу между отдельными фрагментами. Он также предлагал тексты, с торжественной гнусавостью произнося первую строку и выжидая, пока слепец узнает ее и подхватит, задрав по-собачьи голову, на более высокой ноте. Пьер вроде был поглощен происходящим, но я заметил, что он все же разочарован, однако его сестра сидела с опущенной головой и закрытыми глазами, словно слушала музыку. «И приидет воспреемник младенца Саваофа, Всеблагой, и приидет он из Средины: Он принесет чашу, полную разумения и мудрости, и благодатной трезвости, и насытит ими душу. Вольются они в тело, и оно не будет спать, и не познает забвения, отведав из отрезвляющей чаши. Но все, что отведано, будет хлестать сердце, и оно будет вопрошать о таинствах Света, пока, наконец, не узнает их от Девы Пресветлой, и не обретет светоч знаний на веки вечные».
В тот вечер я был очень далек от гностического «восприятия», от постижения того видения, которое всех нас могло превратить в маски, в карикатуры, снабженные именем, вернее, ярлыком; ведь у каждого из нас был свой облик, свой почерк, характер и склонности, открытые только непредвзятому взгляду интуиции. В каждом из нас сражались мужчина, женщина и ребенок. Наши страсти были втиснуты в холодную глину молчания и готовы к отправке в жаркую печь, к мистическому свадебному пиру… В этом смысле, только в этом, я нашел наконец абсолютно удовлетворяющее меня объяснение моих двойственных отношений с Пьером и его сестрой. Через опыт общения с Аккадом и его сектой я смог наконец обрести точку опоры в той части реальности, которая, скорее всего, была моей собственной внутренней сутью. Вероятно это звучит странно, но теперь я понимаю природу моей любви-и вообще природу человеческой любви. Мне стало ясно, что человек, нарушив естественные законы природы, допускающие секс лишь в брачные периоды, утратил общность с животным царством. Это более всего его травмировало, а также было тревожным сигналом: в конечном итоге люди утратят власть над страстями — вот какое их ждет будущее…