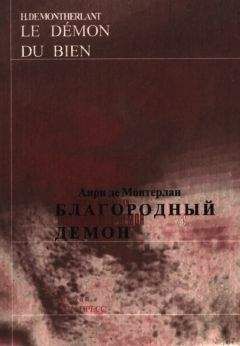Говорят, что жизнь вдвоем — это искусство. Несомненно. Состояние, когда нужно постоянное лекарство, чтобы забыться и защитить себя.
«Но и возле, тебя я обретаю одиночество».
Жеральди.
Прекрасно, если все это так, спрашивается: зачем тогда вообще жизнь вдвоем?
Когда я долго не сжимаю ее в объятиях, она чахнет, вся сжимается, взгляд отсутствующий. Но как только это происходит, вижу преображенное лицо — это иссохший сад, куда впустили воду, или надолго оставленный пес. Она все время непроизвольно жмется ко мне, как ласкающаяся кошечка или резвящаяся собака. Помню того сиамского кота, которого я так любил, но ему настолько была нужна ласка, что он непрестанно кричал — тридцать душераздирающих мяуканий в минуту — если кто-нибудь не брал его к себе на колени. И тогда под гладящей рукой он умолкал. Но я не мог иметь особого слугу для выглаживания кота или какой-то специальный электрический аппарат… После нескольких сводящих с ума дней я кастрировал его. Уж не предвестие ли это для Соланж? Если мне нужно, чтобы она мурлыкала, значит, я должен непрерывно заниматься ею — ласка, нежное слово, «знак внимания» — ей нужно все время чувствовать «поддержку». Веселенькое занятие — быть кислородной подушкой! И, конечно, продолжать свою работу, постоянно обволакивая ее собой, достигать своих целей, утешая других, вот истинно мужское занятие. Но это опустошает.
Оставьте меня на гребне самого себя. Оставьте это полное согласие собственной природы и образа жизни. Не мешайте мне ходить по водам. К тому же, она горит не так ярко и не так быстро, как я. Она не из моего рода полубезумных, в чьем мире я только и чувствую себя абсолютно непринужденно. Я горю, она гасит меня. Я ступаю по воде, она хватает меня за руку, и я тону.
Лорд Байрон: «Зачастую легче умереть ради женщины, чем жить с нею».
Лорд Байрон в письме к X.: «Кажется, вы женились на красивой женщине. Хм… А не стали ли ваши вечера несколько томительнее?»
Мне не в чем обвинять ее, она безупречна. Я даже не против совместной жизни, будь то брак или любовная связь. Я только против жалости, которая заставляет изображать любовь к тому, кого на самом деле не любишь по-настоящему.
1 октября. — Ночь с нею, приятная. Но утром она печальна. Женщины, эти вечные Пенелопы, которые днем распускают то, что соткали ночью. Очевидно, она чувствует, что не приносит мне счастья. Я буквально разрываюсь, только бы она не страдала, но при этом мучаюсь сам, и она это тоже знает: неизбежное следствие любого дела, основанною на жалости. Может быть, она недовольна, что после этих двух первых дней, когда мы были так близки друг к другу, я так и не сказал ничего определенного? И понимает ли, что я сейчас точно в том же состоянии, как и в день отъезда? Эти странные слова: «Мама хочет, чтобы я непременно вышла замуж еще до весны. Вскоре нам нужно дать ответ одному молодому инженеру…» За этим последовал рассказ о том, что какой-то инженер просил ее руки. «Но вы никогда ничего о нем не говорили…» — «Я не хотела докучать вам».
Ну что ж! Пусть женится и освободит меня от нее. И в то же время это как-то действует — не на мое самолюбие, но на то чувство, которое у меня есть к ней. А потом я не очень и верю — существует ли этот инженер на самом деле? Если окажется, что все это выдумка, чтобы подтолкнуть меня (может быть, и при участии ее матери), я, пожалуй, уже никогда не захочу даже видеть ее. Я могу быть таким и этаким, но только не тем, кого можно подтолкнуть на что-то.
В пять часов, когда я пошел на прогулку, она попросила отправить ее письмо к матери. Молодой доктор Ф. рассказывал, как чуть ли не взламывал почтовый ящик в доме своей невесты, чтобы добыть адресованные ей письма. Когда я сказал ему: «Однако же вы и тип!», он ответил, смеясь: «Зато я все-таки человек с характером!» У меня в руках было это письмо, и я подумал: если бы мне захотелось изобразить из себя «человека с характером», как доктор Ф., может быть, вся ситуация сразу и окончательно прояснилась бы, и для меня наступило исцеление и освобождение. Достаточно прочесть: «Я сказала ему про этого мнимого инженера…», и в тот же вечер она уехала бы из Генуи, а мое будущее полностью просветлилось бы. Хотя и противно, но часто разум требует совершить подлый поступок. Когда я сбежал из Парижа, это было некрасиво и в то же время необходимо.
И эти письма к матери и ответные письма — насколько я знаю, она больше ни с кем не переписывается. Как она одинока! Это трогательно… Сомневаюсь, чтобы она много писала про меня. Да мне это и не понравилось бы. А из Этрета все-таки должны прибыть советы и дипломатические инструкции… Насколько чище была моя жизнь вдали от гинекея! Когда я брал оттуда все, что мне нравилось, но сам никогда не входил в него! И натягивал нос папашам и матерям, вместо того чтобы считаться с ними.
Впрочем, даже если этот инженер чистейший миф, можно ли ее осуждать? Не естественно ли в том положении, в которое я ее поставил, стараться ускорить, подтолкнуть мое решение даже ложью? И не было ли бы чистейшей пошлостью посадить ее на поезд, узнав про обман?
Что может быть ужаснее, чем подобное чувство-гибрид, среднее между любовью и безразличием, каким на самом деле оказывается жалость? Уже нет взаимной искренности (разве кому-нибудь нравится быть предметом жалости?), напротив, лишь самоедство, опустошение и в конце концов бурный разрыв, раскидывающий обоих в разные стороны.
Правило: не следует жалеть тех, кого не любишь (это почти то, что говорил мне папаша Дандилло).
Правило: нежность, если нет сильной любви, неуместна. Ведь только сильная любовь дает радость оттого, что приносишь наслаждение любимому существу.
Правило: делай добро и вместе с ним неприятности одному и тому же человеку, тогда сразу будут удовлетворены и твое тщеславие собственным великодушием, и желание, чтобы тебя ненавидели.
2 октября. Завтра начало школы. И здесь, как во всех городах Европы, все ребятишки отправляются с пакетами под мышкой, в новых, только что купленных башмаках. Брюне требует для себя зеленый галстук, иначе он не сможет будто бы толком учиться. И чтобы купила его мамаша Бильбоке: «Вы, женщины, понимаете в этом…» Этот зеленый галстук так ему понравился, что он не снимает его даже дома. Он не писал мне с 25-го.
Когда он жил со мной, мне это надоело. Но совсем не так, как с Сол. Чтобы описать все тонкости, понадобились бы страницы и страницы. А может быть, и всего одна строчка. Он мешал мне работать, потому что каждую минуту я чувствовал любовь к нему.
(Записано вечером.) Бесконечный день вместе с нею. Ничего серьезного — просто не о чем говорить. Представляю, что будто бы решил жениться: «Целых тридцать лет ничего не сказать друг другу. И ведь еще ничего даже и не начиналось». — «У вас плохое настроение. В чем дело?» — «Вы же знаете, все то же». — «Будущее?» — «Да, эта мысль преследует меня — лишиться всего». — «Чего же именно?» — настаиваю, чтобы поглубже разбередить рану. — «Вас». — «Значит, по-вашему, сейчас я принадлежу вам?» — Ничего не отвечая, она прижимается ко мне, и это выводит меня из себя. Ее слова замораживают. Три смысла в этом «обладании». Она обладает мною по праву захвата. Потом, как говорят на воровском жаргоне, она «поимела», обставила меня. Наконец, вампирическое обладание — лежа на мне, высасывать из меня жизнь.
Глядя на проходящий поезд, она вздохнула: «Сколько же увозит он обманутых надежд и несбывшихся мечтаний?» Но женщине никогда не придет в голову, что уходящий поезд может увозить с собой и исполнившиеся мечты. Меланхолия — это утешение бедных душ. На Западе, где преобладают женщины, культ страдания; на Востоке, где господин — мужчина, культ мудрости. И вот я рядом с этой молчаливой и тусклой женщиной, раздраженный, перебирающий внутри себя недостойные ни меня, ни ее слова. И я беру ее руку в свою. Всякий раз, ощущая между нами нечто непоправимое, мне хочется тихо приласкать ее, дать какой-то знак, что я люблю ее. Но в конце концов мне становятся невыносимы эти фальшивые ласки, которые только опошляют настоящее чувство, подобно тому как и жалость позорит любовь. Господи! Сделай так, чтобы я не поддавался всему, что восстает во мне против нее! Дай мне выдержать эти оставшиеся восемь дней…
* * *
По существу, жизнь вдвоем заключается, главным образом, в ожидании. Соланж еще не собралась, и Косталь спустился, чтобы подождать ее в такси, на котором они должны были ехать в Сан-Коссиано. Эта деревня совершенно не интересна для экскурсий, кроме одного — возможности убить время. Наконец, появилась Соланж.
— Вы плохо напудрились.
— Это потому, что я спешила.
Он с раздражением посмотрел на нее. Из-за плохой пудры и ее подурневшего лица Косталь вдруг увидел, какой она будет в пятьдесят лет: заплывшей маленькой мещанкой.