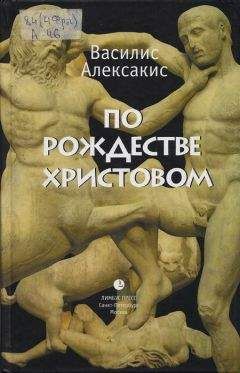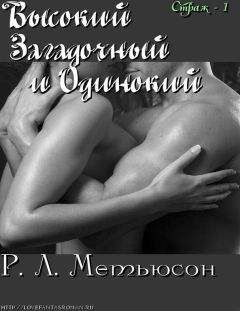Я то и дело засовываю руку в карман брюк и трогаю три орешка, подаренные мне Полиной Менексиаду. Они чуть темнее и глаже тех, что можно купить на рынке. Я сунул их в карман, тщательно вытряхнув из него крошки «византийского» печенья Филиппусиса, и так боюсь потерять, что постоянно держу при себе — трогаю, пересчитываю, поминутно удостоверяюсь, что ни один не пропал. Думаю, у меня нет ничего драгоценнее этих трех орешков, которые попали мне в руки только вчера.
Когда паром, на котором я приплыл с Тиноса, вошел в Пирейский порт, мне бросилось в глаза странное судно с множеством антенн, стоящее на якоре неподалеку от того места, где мы швартовались. На его корме находился некий снаряд, похожий на вертолет без лопастей. Не могу сказать, что я его сразу узнал, но мне все же показалось, что я его уже где-то видел. Едва сойдя на берег, я сразу направился к загадочному судну, на которое человек десять грузили ящики и всякого рода штуковины. Один из них тащил стопку пустых пластиковых ящиков из-под фруктов, другой — желтые поплавки размером с мяч. Вся эта суета происходила под присмотром пожилого седовласого мужчины с небольшим толстоствольным карабином в руках и молодой женщины, что-то помечавшей в блокноте. Я подошел достаточно близко, чтобы прочитать название судна — «Эгей». Аппарат же на его корме назывался «Фетида». Только когда я узнал батискаф Эллинского центра морских исследований, до меня дошло, что молодая женщина с блокнотом — Полина Менексиаду. Она опять сменила прическу, на этот раз собрав волосы в конский хвост. Мне пришлось напомнить ей нашу первую встречу, чтобы она меня узнала.
— Вы мне еще говорили о глубоководном иле, который сохраняет предметы в неприкосновенности, — заключил я.
— Да, он обеспечивает им своего рода вечность, — кивнула она задумчиво.
Ее спокойная речь ослабила мое напряжение. Я почувствовал себя еще лучше, когда она сказала пожилому мужчине:
— He’s a friend.
«Это профессор из Чикаго», — подумал я. На нем были бермуды и военные башмаки. Он благожелательно улыбнулся мне.
— Вы меня забыли, — упрекнул я Полину.
— Вовсе нет! — запротестовала она. — Я говорила о вас Фаскиотису, и он разрешил ознакомить вас с результатами нашей экспедиции, когда все закончится, недели через две. Мы решили начать раньше, чем предполагалось, потому что Джеффри хочет вернуться в Чикаго как можно скорее. Верно, Джеффри?
Она задала свой вопрос по-гречески, что, похоже, доставило американцу удовольствие.
Полина бросила взгляд на мою объемистую сумку. В итоге взял не одну, а несколько банок варенья, чтобы раздавать монахам.
— Хотите, подброшу вас до Афин? — предложила она. — Мне надо заехать в контору за моими вещами. Мы поднимаем якорь сегодня ночью, в полночь.
Я позавидовал тем, кто собирался принять участие в этом плавании, у кого будет шанс увидеть сквозь стеклянный пузырь батискафа тысячи персидских щитов, рассеянных по донному илу. Ее машина, горбатая кирпично-красная «шкода», стояла неподалеку. Мы прошли мимо Джеффри, но он про нас уже забыл. Осматривал свое оружие.
— Это для запуска осветительных ракет, — пояснила Полина. — Джеффри торопится уехать, потому что у него больна жена. Это он финансирует экспедицию. У нашего департамента не хватило бы денег на такие дорогостоящие поиски, притом что успеха никто не гарантирует. Мы ведь не знаем точно, где затонул персидский флот. Один рыбак указал нам мыс Убийцу. Рыбаки очень хорошо знают морское дно, они ведь его буквально боронят своими тралами, часто нанося непоправимый ущерб — расчленяют обломки, разбивают амфоры.
Я узнал от нее, что трал — это такая рыболовная снасть, металлическая сеть на железном каркасе, которая позволяет траулерам скрести морское дно аж на полукилометровой глубине.
— Правда, рыбакам попадаются иногда статуи, которые министерство культуры выкупает по немалой цене, чтобы отвадить их от черного рынка. Вы ведь знаете, наверное, что у нас в стране процветает подпольная торговля древностями. Все наши промышленники и политики держат у себя дома настоящие маленькие музеи античных и византийских произведений искусства.
Я вспомнил, что прекрасная статуя, которую я видел в ванне, тоже была выловлена рыбаком. Три недели прошло после моего визита в департамент подводной археологии, и почти два месяца с тех пор, как я пообещал Навсикае навести справки об Афоне. «Когда-нибудь я тоже ослепну», — подумал я, быть может, потому что с трудом разбирал надписи на дорожных указателях. Мы ехали на большой скорости по дороге вдоль моря. Полина обгоняла даже более мощные машины, чем у нее. Когда мы свернули на улицу Сингру, я сказал ей, что рассчитываю провести Страстную неделю на горе Афон, фотографируя сохранившиеся там древности.
— Не думаю, чтобы там много осталось. Но все же хотелось бы взглянуть на ваши снимки. Учтите, кстати, что монахи не любят археологов. На подводные раскопки они тоже косо смотрят. Когда мы в первый раз отправились к горе Афон, то близко к берегу не подходили, но они все равно стреляли по нам из ружей. Наверное, в бинокль заметили на борту нескольких женщин.
Она была явно старше меня, но на сколько лет? «Мы поженимся на пустынном островке. Отпразднуем событие, бросая рыбам крошки хлеба в закатный час. Все рыбы Эгейского моря соберутся вокруг нас».
— Тем не менее их женоненавистничество имеет свои пределы. Мы не раз видели, как они подплывали на лодке к туристическим судам и продавали пассажирам, большинство которых обычно женщины, всякие благочестивые вещицы. Они, впрочем, и к нам подплыли. Предложили купить, кроме всего прочего, копии пояса Богоматери, который хранится в Ватопедском монастыре. Считается, что они помогают от женского бесплодия и рака.
Она посмотрела на меня краешком глаза. Я признался, что никогда не слышал об этом поясе.
— Говорят, он из верблюжьей шерсти и был подарен монастырю Иоанном Кантакузеном в XIV веке. В то время был обычай проносить его крестным ходом через города, охваченные эпидемией. Монахи и сейчас выставляют его то тут, то там, совсем недавно показывали в афинском пригороде Неа Филадельфиа, в церкви. Народ просто валом валил, они наверняка заработали кучу денег. Может, и вам позволят на него взглянуть.
«Я уже второй месяц выслушиваю грустную историю», — подумалось мне.
— Не имею никакого желания его видеть.
Она засмеялась.
— Я тоже.
Машина остановилась перед зданием на улице Эрехтиу.
— Такси найдете чуть дальше.
Я понял, что отведенное мне время подошло к концу. И все же попросил, чтобы она позволила мне еще раз взглянуть на статую эфеба.
— Я не видел его лица.
— Вы будете разочарованы.
Сторож открыл нам помещение и зажег верхний свет — два ряда люминесцентных трубок. Ванна была пуста. Несмотря на предупреждение Полины, я глубоко огорчился, увидев статую, стоящую рядом с амфорами на полках. Лица у нее не было. Не хватало головы, левого плеча и руки. Да и ноги показались мне уже не такими легкими. Молодая женщина дружески похлопала меня по спине, словно мы были на похоронах и она хотела меня утешить. Она стояла сзади, рядом со сторожем. Обернувшись, я заметил на мраморной плите, положенной на радиатор, тарелку с лесными орехами.
— А это где вы нашли?
— Среди обломков испанского судна, затонувшего у острова Занте в 1600 году. Мы их почти не чистили, достали из моря почти в том же состоянии, в каком видите. Внутри, правда, ничего уже нет, ядрышки со временем превратились в пыль.
Наверное, мое желание заполучить орешек было таким явным, что Полина, улучив момент, когда сторож отвлекся, стянула три штуки и сунула мне в руку. Прежде чем попрощаться, я позволил себе поцеловать ее в обе щеки.
— На Афоне будем завтра, — сказала она, словно назначая свидание.
— А я во вторник.
Я вышел из департамента подводной археологии сам не свой от радости, беспрестанно бормоча под нос: «У меня есть три орешка по четыре сотни лет». Стал даже напевать. Мне хотелось слышать это снова и снова.
На углу улицы я остановился. Решил удостовериться, что орехи действительно пустые, и потряс ими возле уха. В одном послышался какой-то едва различимый звук, словно от его ядрышка что-то сохранилось — какой-то проблеск жизни.
Чем дальше на север, тем больше громоздится облаков. Вблизи они гораздо белее, чем издали. Те, которых утреннее солнце коснулось своими лучами, сверкают ослепительным светом. Мне как-то не приходило в голову, что мы полетим выше облаков и я увижу ясное небо. Да уж, прав был Архит, утверждая, что вселенная бесконечна. «Что помешает мне, — вопрошал он у тех, кто настаивал на обратном, — добравшись однажды до предела небес, протянуть свой посох дальше?». Я представляю себе досократиков то молодыми людьми, то стариками, опирающимися на посох. Мне трудно поверить, что они были так серьезны, как про них говорит Феано. Впрочем, она сама нам рассказывала, что Демокрит часто смеялся и считал веселость драгоценным даром. Однако, достигнув преклонного возраста, он принял ужасное решение выколоть себе глаза, поскольку не мог спокойно смотреть на красивых женщин, уже не имея возможности их обольщать. Архит, которого я только что упомянул, был изобретателем трещотки, а эта игрушка, по мнению Аристотеля, отнюдь не пустяк, поскольку дает выход детской нервозности. Если бы облака не были такими плотными, я бы, наверное, смог увидеть судно, на борту которого плывет Полина. Оно сейчас должно приближаться к Спорадам, как и мы.