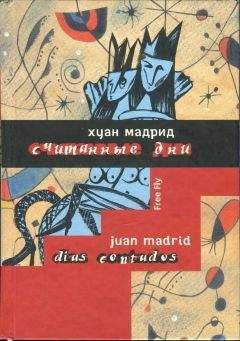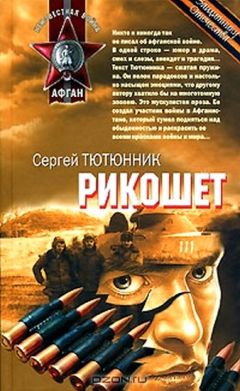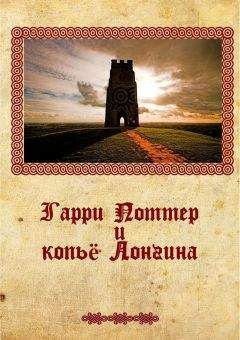— Маленьким я хотел только одного — повзрослеть. Сколько себя помню, всегда мечтал поскорее стать большим и сильным, — подхватил Антонио.
Чаро продолжила:
— Подумать только, я так много размышляла о своей жизни и так четко ее себе воображала, что фантазия перепуталась у меня с реальностью. Я вижу перед собой каждую деталь, каждую мелочь, и мне кажется, что дом существует на самом деле. Я знаю, какого цвета в нем стены, какая стоит мебель и какие картины висят на стенах. Даже размеры комнат и те представляю себе до сантиметра. Они стоят у меня перед глазами. Любопытно, правда, Антонио?
Антонио хотел ответить, но ход его мысли нарушил Лисардо: он изо всей силы ударился головой о вагонную дверь, потом немного отошел и ударился снова с явным намерением пробить стекло.
— Он расшибет себе башку, — заметил Антонио.
— У Лисардо ломка, — объяснила Чаро. — Ему срочно требуется укол, поэтому он психует. Ванесса влюблена в него по уши, считает его неотразимым. Ей вообще нравятся мужчины.
— А тебе?
— Мне? Как тебе сказать? Раньше я очень любила мужа, а то, что ты подразумеваешь под этим словом, так мне не нравится никто… разве только ты. Пожалуй, ты мне действительно нравишься.
Чаро прижалась к нему всем телом.
— Похоже, я начинаю в тебя влюбляться. — Она вздохнула. — У меня зуд в том самом месте: вчера я немного перестаралась и натерла себе бульбочку[48], хи-хи-хи!
Антонио опустил руку, нащупал под короткой юбкой твердую, упругую попку и попытался дотянуться до ложбинки между ног.
— Ну-ка, посмотрим! Ничего страшного. Все на своем месте.
— Глупый. — Чаро понизила голос и зашептала ему в ухо. — Скажи мне, что я твоя девушка. Пожалуйста!
Она подняла голову, чтобы расслышать ответ, но Антонио сунул ей в ухо язык. Чаро вскрикнула и отпрянула.
— Ты моя девушка, — шепнул он.
— Повтори.
— Ты моя девушка, и я тебя люблю.
— Ай, прекрати! Я завожусь с пол-оборота.
— Довольно, с меня хватит! — закричала женщина с другого конца вагона и обратилась к пассажиру, который сидел рядом с ней. — Животные, совершенные животные! А этот тип, посмотрите, куда он запустил свою лапу.
Пассажир ничего не ответил, только съежился на сиденье и устремил сосредоточенный взгляд на свои ботинки.
— Почему вы не реагируете? Вы же взрослый мужчина, или я ошибаюсь? Порядочному человеку теперь и в метро нельзя проехаться спокойно.
Женщина сбавила тон, бурча что-то себе под нос и вертя головой по сторонам. Очевидно, она искала поддержки среди остальных пассажиров.
Но все отводили глаза и делали вид, будто ничего не замечают. Стоявшие рядом люди повернулись спиной к нарушителям спокойствия и не обращали на них никакого внимания.
Ванесса билась головой о дверь вместе с Лисардо, и оба заливались истеричным смехом.
— Мне бы хотелось очутиться в Марокко, перенестись туда прямо сейчас, — заявила Чаро. — Интересно, там есть метро? Я хочу сказать, такая же подземка, как у нас, в Мадриде?
Антонио задумался. Женщина продолжала негодовать, булькая, как медный чайник на огне, и испепеляя Лисардо с Ванессой презрительными взглядами.
— Сейчас уже не помню, — наконец проговорил он. — В Рабате метро нет — это точно. А вот в Касабланке… нет, не помню, но, похоже, тоже нет.
— После фиесты у нас появятся деньги, — сказала Чаро. — Много-премного. — Она прильнула к Антонио. — Как мне с тобой хорошо! Словно знаю тебя всю жизнь. — Она помолчала. — Хочешь поехать с нами в Марокко?
Антонио кивнул.
— Я буду у вас гидом. Оторвемся на полную катушку. Я был в Касабланке, фотографировал там лет десять тому назад… подожди, в каком же году? Кажется в тысяча девятьсот восьмидесятом или тысяча девятьсот восемьдесят первом… что-то вроде того. Нас, нескольких журналистов и фотокорреспондентов, пригласило марокканское посольство, а вот куда именно… Наверное, на какой-нибудь конгресс? Сейчас уже забыл.
Поезд остановился на станции, и в скрежете тормозов Антонио почудились звуки далекого перезвона.
— Да замолчите же вы наконец, хулиганье, — закричала женщина, продолжая озираться по сторонам в поисках сочувствия. — Подонки, отребье, канальи!
Лисардо в один прыжок оказался рядом с женщиной.
— Я тебя трогаю? Грязная жирная свинья! — завизжал он.
Женщина подняла на него налившиеся кровью глаза и приготовилась ответить, но Лисардо плюнул ей в лицо, попав в нос. Женщина зашлась в крике.
Тут открылись двери вагона, и компания выскочила на перрон.
Ванесса смеялась как сумасшедшая.
Пыхтя и отдуваясь, мимо Антонио прошла толстая женщина с пластиковым чемоданчиком. С затылка на морщинистую шею текли струйки пота. Скоро она исчезла в недрах безлюдного коридора. Сидевший рядом старик вытащил из кармана пиджака сигарету.
— Кажется, тут нельзя курить, — неуверенно произнес он, скосив глаза на кончик сигареты.
— Нельзя, — подтвердил Антонио.
— Сколько мне, по-вашему?
— Лет семьдесят?
— Восемьдесят три. — Он победоносно огляделся по сторонам, блеснув из-под бровей маленькими хитрыми глазками. — Я начал курить в двенадцать лет. В те времена курево называлось «квартероном»[49] — такой измельченный табак, смешанный с травкой, его продавали в пакетиках за четвертак, поэтому-то мы и придумали ему такое название: «квартерон», хе-хе-хе. Мне нравилась эта смесь. Да, с тех пор много воды утекло.
Они сидели на деревянной скамейке у стены. Напротив расположились женщина с неподвижным, точно замороженным лицом и одетая во все черное девочка, которая, не переставая, грызла ногти.
Старик продолжал разглагольствовать, обращаясь к Антонио.
— Вот я вам и говорю: все врачи просто шуты гороховые. Какой вред может принести табак? Я вас спрашиваю, отвечайте! Врачи строго-настрого запретили мне курить. А я дожил до восьмидесяти трех годочков. Надо быть полным придурком, чтобы не разрешать мне курить. И еще большим придурком выставляет себя мой сын, когда отбирает у меня сигареты. Я вас спрашиваю: какой вред может принести мне табак теперь, если я курю с двенадцати лет?
Старик встретился взглядом с женщиной, сидевшей напротив. Та беззвучно шевелила губами, словно разговаривала сама с собой.
— Врачи! — прошептала она.
Девочка, одетая в черное, натужно кашлянула и снова принялась за ногти.
— Скажу вам как на духу, — продолжал старик. — В двенадцать лет я уже работал в хлебопекарне и ломал хребет, таская огромные кули с мукой. Хлебопекарня называлась «Булочная Капельянес» и находилась тогда на Оперной площади. Вот я и спрашиваю: если ты в двенадцать лет вкалываешь ровно мужик, то почему нельзя курить как взрослый мужчина? Курить и заниматься всем остальным.
Старик подмигнул Антонио, сипло засмеялся и пошел рассказывать дальше:
— Никто не протестовал, когда парнишка исполнял работу, что по плечу разве только бугаю, а теперь, нате вам, пожалуйста, — оказывается, мне нельзя было курить. Дескать, от этого у меня развилась эмфизема легких. Чушь на постном масле! Почему же тогда, в двенадцать лет, мне разрешали вкалывать? Сейчас, в моем возрасте, уже не важно, сколько я курю.
Женщина, разговаривавшая сама с собой, вдруг затопала ногами и принялась выкручивать себе пальцы. В коридоре показалась медсестра, и женщина, стремительно поднявшись ей навстречу, схватила ее за локоть:
— Сеньорита, послушайте, сеньорита! Умоляю!
— Сеньора, успокойтесь. Еще ничего не известно! — воскликнула медсестра, осторожно отстраняя женщину рукой. — Он в операционной. Не надо спрашивать меня каждую минуту об одном и том же.
Женщина застыла на месте, провожая взглядом фигуру медсестры, которая удалялась по коридору, покачивая бедрами. Перед тем как исчезнуть за дверью, она повернула голову и проговорила:
— Сидите на месте и спокойно ждите.
Женщина тяжело опустилась на скамейку и крепко зажмурила глаза.
— Мой мальчик, — шептала она. — Мой малыш!
— Что? — оживился старик. — Что с вашим мальчиком?
— Моего сына оперируют. — Женщина открыла глаза и бросила тревожный взгляд в конец коридора. — Оперируют моего маленького.
— Все обойдется, — успокоительно шамкал старик. — Вот увидите. Теперь не то, что раньше, теперь в медицине много достижений. Я три раза находился на краю смерти, меня даже соборовали, а я вот он — живехонек!
— Велосипедный руль…
Антонио показалось, что женщина вот-вот заплачет, но та только закусила губу.
— …на него наехала машина, а руль от велосипеда вонзился ему в грудь… в грудь…
— Мама, — девочка в черном с осуждением на нее посмотрела, и женщина снова сомкнула губы в молчании, — хватит уже!