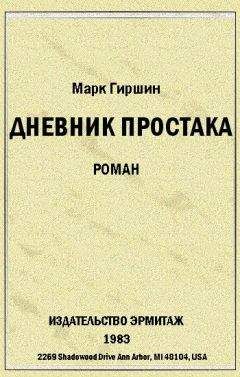А кандидат наук вбежал с улицы и неожиданно наткнулся на меня. Даже не знаю, как у меня вырвалось: «Зачем вы наврали обо мне в газете?..» Но он тут же пришел в себя и как ни в чем не бывало ответил, что это не он. Даже спросил, где Люся, и я ему показал. Но по лицу было видно, что он. И как раз в это время кто-то хлопнул меня по плечу. Это был сатирик. Он сказал, что с большим сочувствием относится ко мне после гангстерской публикации моего фото, за такие вещи морду бьют. А кто это сделал, я спросил. Но он ответил, что мы еще об этом поговорим, а пока надо, чтоб ваше дело не дошло до суда. На мой вопрос, чем отличается большое жюри от суда, он сказал, если жюри найдет, что я виновен, тогда я предстану перед судом. А если нет, мы с вами по выходе обязательно отметим это дело. Я признался, я чувствую, что-то мне обязательно дадут. Тогда мы с женой будем носить вам передачи, он пообещал. Такой пустой разговор.
Сейчас, когда все позади, я понимаю, насколько в тот момент пал духом, если ухватился за сочувствие этого сатирика, как за соломинку. Так на меня подействовала враждебность и самоуверенность вовиных родственников, жаждущих моей крови. Что бы ни было на уме у этого сатирика, но только за то, что он демонстративно стал на мою сторону, я ему век обязан. Тем более, голос у него такой громкий, что все оглядываются. Он носит дубленку, а на голове огромную пыжиковую шапку. У кандидата наук и у Вовы с Люсей тоже такие наряды, привезенные из Союза. Там их можно было достать только из-под полы и за большие деньги. Они служили свидетельством преуспеяния, по которому свой узнавал своего. Очевидно, здесь тоже. Правда, брюки сатирика были замызганы, а ботинки не чищены. Но это делало его еще заметней.
Я объяснил ему, что хотел бы собраться с мыслями перед жюри, и ушел. Уселся в комнате, где никого не было. Но скоро зашли две толстые цветные женщины с кучей детей, и я вышел в коридор. И вовремя, потому что услышал, как в зале повторяют мою фамилию. Через раскрытые двери в зал я увидел женщину рядом со здоровенным полицейским, которая вертела головой во все стороны, разыскивая меня. Женщина сказала, что приглашена быть моим переводчиком, если я не против. Русский язык ее был ужасный, скорее всего это был наполовину забытый польский, но я решил, зато английский она должна знать, потому что не может же быть, чтобы прожив всю жизнь на земле, человек не мог разговаривать ни на одном языке. Потом оказалось, что председатель жюри ее не понимает и каждый раз должен переспрашивать. Мало того, он просил ее говорить по буквам, записывал ее ответ, после чего показывал ей лист, правильно он ее понял или нет. Ко всему, она была еще на редкость бестолковая. Никак не могла уразуметь, что не понимают не мой ответ, а ее перевод, снова обращалась ко мне с тем же вопросом, и все начиналось сначала. Но тогда я, конечно, этого еще не знал. Я попросил ее пойти куда-нибудь, где мы могли бы поговорить. Но она ответила, что никто из этих людей вокруг нас все равно не будет допущен на большое жюри, а она не адвокат, на жюри адвокатов тоже не допускают, а главное, она еще не имела ланча. И тут же пошла к автоматам кушать.
А полицейский остался у закрытой двери в комнату жюри. Я решил, что если меня признают виновным, то он меня отведет в тюрьму, где я буду ждать суда. Он был сед, но лицо молодое и розовое, крупные руки, должно быть, мягкие, с веснушками. Мне показалось, Люся смотрит на него с надеждой. Меня она не замечала. Как это у нее получалось, а не знаю, смотреть туда, где стоят двое, а видеть только одного. Я бы так не мог. Сидела, забросив ногу на ногу, а двух шагах от меня и смотрела сквозь меня. Я даже обернулся, что она видит за мной? Но там была обыкновенная дверь, правда, очень высокая, до самого потолка. А поверх вязанки у Люси, чтоб все видели, висел деревянный крест.
Вдруг за мной раскрылись двери, и меня позвали на жюри. Тут уже была моя переводчица, перегнувшись через стол к председателю, она что-то растолковывала ему. При этом жевала бутерброд, и крошки сыпались на бумаги, лежащие перед председателем. Возможно, это даже было мое дело. Процедура все же была соблюдена. Меня привели к присяге, предварительно, к моему стыду, попросив вынуть изо рта жвачку, которую мне дал сатирик, я о ней забыл. Еще хуже было, что переводчица переводит неправильно. Не может быть, чтобы жюри просто спросило, не женат ли я, это и так было ясно из анкеты, которую я заполнил по просьбе инспектора в гостинице. Скорее всего, от меня ждали, что я объясню, почему. Я бы рассказал, что встречался с одной женщиной, но когда выяснилось, что квартиры от издательства я не получу, она не захотела. В этом случае было бы ясно, что не такой уж я эгоист, как могло показаться, если судить только по анкете. Но не мог же я сам лезть с объяснениями, если меня не спрашивали. На вопрос, почему я все время говорил, что черных было двое, если я видел лишь, одного, в черной шляпе и распатланных джинсах, когда он входил в вовин номер, я не знал, что ответить. Как вы знаете, что двое, настаивал председатель. Пришлось сказать, что они сначала пытались зайти ко мне. О-о, облегченно откликнулся председатель. Расскажите. Я все рассказал. Почему я в гостинице об этом не рассказал, кто-то спросил из жюри. Я думал, что сказать. Опять ничего не придумал. Все ждали. Было неудобно, что они ждут меня. Пришлось сказать правду, я боялся, что подумают, я знаком с этими черными. А вы не знакомы? Нет, конечно. Все слова, которые я говорил черным. Повторите. Что нет денег, вот все. И больше ни единого слова? Нет. Что в вовином номере им дадут? Не говорили? Вы знаете, в каком номере он жил? Я назвал номер. Так вот, не говорили, что он побогаче, у него найдется, что дать? Если они поднимутся к нему. Вспомните. Нечего вспоминать, я этого не говорил. А если бы знали лучше язык, сказали бы?
И глупо требовать, чтобы человек в такую минуту бросился со всех ног выручать делягу, который столько лет вытаскивал масло из его тарелки. Председатель озабоченно ткнулся в бумаги, а затем приподнялся в кресле, так что его черная мантии разошлась на груди и стал виден клетчатый пиджак и рубашка в крапинку, и спросил, у кого и когда вытаскивал Вова масло. Я ответил, что это не Вова, а другой эмигрант, я просто хотел привести яркий пример. Если бы случай в гостинице произошел не с Вовой, то хоть какое было мое настроение, я бы заколотил в дверь, чтобы поднять на ноги гостиницу. А ради Вовы мне не хотелось. Слышал ли я, чтоб из вовиного номера раздавались крики? Я ответил, что слышал, как Вова кричал на них, больше ничего. Был ли это крик страха? Я сказал, скорее наглый. Председатель жюри удивился, при чем тут наглость? Я ответил, если люди входят в твой номер и просят отдать побрякушку вроде кольца или браслета, которыми Люся звенела на лекции, то нечего доводить их до такого, состояния, чтоб они хватали со стола нож для колбасы и бросались на тебя. На вопрос, чем я руководствовался, когда писал профессору Кагану, не стремлением ли дискредитировать Вову, я ответил, что хотел сказать правду, больше ничего. Я и в издательстве так поступал. Меня даже из-за этого уволил директор, и я подал в суд. Тут же меня спросили, почему я в анкете отрицательно ответил на вопрос, был ли судим. Пришлось объяснять, суд разбирал трудовой конфликт, а не уголовное обвинение. Вдруг переводчица возмутилась. Она во время войны, к несчастью, оказалась в моей стране, где ее заставляли работать в колхозе с восхода до захода солнца, у вас там нет никакого трудового законодательства, это неправда! Вся покрылась пятнами от возмущении. Я хотел ей ответить, что во время войны все так работали, а сейчас совсем другое дело, колхозники, наоборот, ничего не делают, но жюри личный опыт этой труженицы полей интересовал мало, председатель что-то писал в своих бумагах, и никто ее не слушал.
Жаль, что они не задали мне вопрос, чем закончился суд. Я бы сказал, даже мой директор ничего не мог доказать, потому что есть такой закон, увольнение допустимо только с согласия профсоюза. А он был так в себе уверен, что не согласовал. И по постановлению суда вынужден был не только восстановить меня на работе, но и оплатить вынужденный прогул. Но председатель, одолеваемый спешкой, буркнул, что апелляция Люси, с требованием признать меня виновным, отклонена, я могу идти домой, а письменное постановление они мне пришлют по почте. Тут же придвинул к себе другие папки и забыл обо мне.
Это было так неожиданно, в особенности лишенная всякой торжественности манера председателя объявлять постановление, что я бросился пожимать руку переводчице, которая ее с досадой выдернула. Скорее всего, она была убеждена, что если бы не спешка из-за вечной нехватки средств на оплату судей, то такого негодяя, как я, обязательно бы посадили.
Действительно, не успел я выйти, как полицейский отворил двери и пропустил на жюри какую-то американку, а в зале ожидания я застал полно новых людей, которые ждали разбора своих дел. Переводчица что-то раздраженно втолковывала вовиным родственникам. Кандидат же наук, встретившись со мной взглядом, улыбнулся, как побитый. А когда сатирик в обычной для него грубой манере спросил, что, дал он уже взятку той тетке, которая растыкивает по колледжам эмигрантов с липовыми кандидатскими удостоверениями, он даже счел это за разрешение приблизиться к нам.