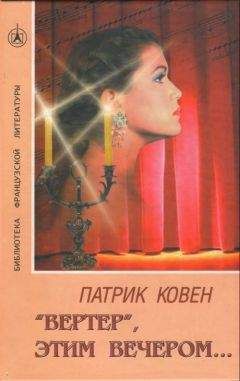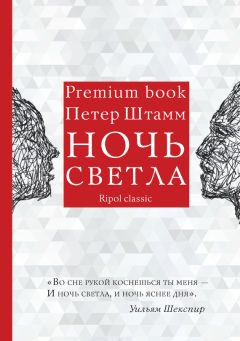Эльза Кюн поет предсмертную арию из «Вертера».
Мюнхен, Национальный театр. Орландо чувствует, как зал охватывает напряжение. Бескрайнее и неприметное пока волнение, словно вызванное надвигающейся опасностью, морская зыбь перед штормом. Мой голос, мостик, переброшенный между ними и мной… Эмилиана Партони бежит на носочках, словно балерина, ее платье колышется в свете луны. Мими пока еще избегает любви, но чувства уже влекут ее к Рудольфу. Они в конце концов ее и погубят. Как всегда, в финале опер герои только и делают, что умирают. Он приближается к ней, хватает ее за руку, чтобы она не убежала, музыка затихает, и их руки медленно взмывают вверх в лучах прожектора. Эмилиана разжимает пальцы, и свет отражает белизну ее ладони. Внизу, под крышами, Париж уже уснул. Сквозь распахнутое окно врывается летняя ночь, угадывается ветка сирени и скрывающийся за нею купол базилики на Монмартре. Ладони Рудольфа и Мими соприкасаются, переплетаются между собой… «Пальцы, Орландо, ты должен целовать ее даже кончиками пальцев. Все внимание сейчас обращено на них».
Che gelida manina
Se la lasci ricordar…
Великая ария из «Богемы». Они пришли сюда в основном из-за нее. Опера частенько напоминала Орландо языческий ритуал: уберите позолоту и люстры в зале — и эта публика будет выглядеть совсем по-иному, исчезнет лоск и белизна манишек, и перед вами предстанет племя в доисторической ночи. Если не брать во внимание нескольких специалистов, большинство зрителей пришло сюда только для того, чтобы послушать блестящие арии, и в этом было еще одно сходство оперы со спортом — точно так же стадион вскакивает после каждого гола или виртуозного вратарского перехвата. В этот момент большая часть зрителей ждала от тенора «до» верхней октавы, от сопрано — верхнего «ре», они пришли сюда в погоне за спортивными рекордами, за самыми сильными и высокими нотами. Своеобразный атлетический подход к опере.
Chi son? Sono un poeta.
Che cos a faccio? Scrivo.
E come vivo? Vivo…
Партони медленно высвободила пальцы, и Орландо незаметно выступил на свет, тогда как она скрылась в тени. Пот проступил на его висках, скатываясь по гриму. Тенор на два шага приблизился к авансцене. Краем глаза он мог видеть свое отражение в спрятанных за кулисами видео-экранах.
Свет от пюпитра выхватил скулы дирижера, и на взмах его палочки тут же откликнулись виолончели. Пуччини… Он умел затронуть струны всей любви мира, он переложил страсть на язык музыки, и мелодия бушевала, словно море, уносящее в ненастье корабль с раздутыми ветрилами. Орландо почувствовал, как дрожат мышцы его ног. В который раз ему показалось, что он никогда не споет лучше, чем в этот вечер. Его голос был обнаженным мечом, женской лаской, гневом и нежностью. Голос-Карола.
Он почувствовал, как зал перед ним замер, и его голосовые связки напряглись.
La speranza!
Верхнее «до». Он приготовился к нему заранее, и теперь лишь контролировал вибрации связок, словно пилот — режим двигателя. Нота, ослепительная, как вспышка света. В нарастающей мощи оркестра Орландо вложил все свои силы в звук, и тот засиял, словно раскаленная добела лампочка. Зал в оцепенении ловил эту неповторимую высокую ноту, чистую, как алмаз в прозрачной оправе. Она горделиво взмыла под самые своды и, уже готовая, казалось, вырваться наружу, внезапно оборвалась. Орландо расслабил напряженные мускулы и как будто упал с небес на землю.
Несколько секунд ошеломленной тишины — и палочка Саноли взметнулась вверх в крещендо восклицаний и аплодисментов.
Орландо выдержал паузу — это могло продолжаться долго. Слегка наклонив голову в сдержанном поклоне, он почувствовал, как вдоль ребер катится пот. В бушующем море криков, наводнивших зал, он, все еще глубоко дыша, закрыл глаза. Он осознал, что, несмотря на усилия и сосредоточенность, которых требовала партитура, ни на секунду не забыл о Кароле, он пел в зеленом сиянье глаз той женщины, которую любил.
Саноли улыбнулся ему и поднял палочку; повернувшись, Орландо подошел к Партони — сейчас была ее очередь. Следуя замыслу постановщика, он присел на вторую ступеньку лестницы у ног певицы.
— Si… Mi chiamo Mimi…
Еще более бархатистый и нежный, чем обычно, ее голос трепетал. Поговаривали, что у нее новый любовник, скульптор-перуанец, что она скупает все его произведения и складывает у себя на вилле, в Сиракузах. Орландо не был в этом уверен, он знал, что она способна пустить самый невероятный слух, чтобы поддерживать скандальную славу женщины свободных нравов. Это ее забавляло. Однажды он познакомит ее с Каролой: у них есть кое-что общее — открытый взгляд, устремленный в будущее, расцвечивающий его бесчисленными солнцами. И однако, иногда в их глазах сквозила печаль, отголосок былой раны, воспоминания из неизвестного прошлого. Словно тяжелая мрачная конница внезапно налетала на залитые солнцем луга, таща за собой занавес ночи.
Если все пойдет, как он задумал, то в этот вечер он последний раз поет вдали от нее. Они встретятся после спектакля и пойдут ужинать в какой-нибудь отель или харчевню. В Риме он поведет ее в заведение Манторелли — узенькая дверь в стене за Пьяцца Новара, шесть столиков, накрытых застиранными скатертями в клеточку, засаленные стены, но при этом лучшие спагетти на земле, и тут же хозяин, сам, в своей худобе, смахивающий на макаронину, наливает из бочки лучшее «Кьянти» во всей Тоскане. В Нью-Йорке они пойдут к Сарди, а потом в его гастролях наступит перерыв и они вдвоем куда-нибудь уедут: остров в Тихом океане; может быть, яхта. Время вдали от Сафенберга побежит быстрее, и никто не отнимет у них это море и теплые ночи. Там сотрутся даже воспоминания о мрачных немецких холмах и о драме, не угасающей за стенами старого дома; там ничто не потревожит их в эти долгие часы под лазурным небом и палящим солнцем.
Sono la sua vicina
Che lo vien fuori d'ora
О importunare…
Ария Мими подходит к концу, Орландо вскакивает, бежит к актрисе, обнимает ее, та отстраняется, Дверь распахивается, и на сцену высыпают Марсель, Коллен и Шонар.
Скоро начнется праздник. Партони смотрит на тенора, никогда еще она не видала в его глазах столько радости и силы.
— Почему он больше никого не рисовал, кроме этого Тавива?
Людвиг поднимает глаза на Каролу. Его зрачки мечутся за толстыми стеклами очков, слишком больших для узкого лица.
— Не знаю.
Они в мастерской художника. За витражами веранды уже опустилась ночь.
— Почему перед смертью он сказал, что не убивал его?
Людвиг Кюн глядит на дочь. Ему знакомо нынешнее выражение ее лица — выражение упрямого ребенка, присущее ей в определенные минуты, пугающее всех своей жестокостью и непреодолимым упрямством, против которого любые средства бессильны. Он вспоминает день, когда она отказывалась произнести заученное поздравление ко дню рождения Эльзы. Перед ним снова этот дикий ребенок, стоящий с поджатыми губами в кругу взрослых, это замершее воплощение неистового бешенства, которое ничто не в силах унять. Тогда Карола восемь дней провела взаперти в своей комнате; мать даже поколотила ее, и когда он вмешался, чтобы предотвратить драму, его поразили глаза дочери: на них не проступило ни слезинки, они ни разу не моргнули под градом оплеух. И в этот раз она вновь не ослабит хватку, она желает знать и она своего добьется. Однако он не сможет признаться, у него не хватит ни сил, ни… нет, это безумие, столько лег хранить тайну, чтобы теперь…
— Не знаю.
Никогда он еще не видел ее глаза такими светлыми два огромных, пустых, неумолимых изумруда.
— Я хочу знать.
— Есть вещи, о которых лучше не знать.
Людвиг почувствовал, как забилось его сердце. Некоторые слова лучше не произносить; едва сорвавшись с губ, они оживают, словно кошмарные насекомые из фильмов ужасов категории «В». Липкие слова, личинки и тараканы, атакующие людей и оставляющие после себя незаживающие укусы.
Карола села на кровать. Ее рука легонько коснулась отцовского плеча.
— Он был любовником твоей матери, ведь так?
Людвиг вздрогнул. Теперь комната наполнилась неистовыми ползучими тварями. Его глаза метались за линзами очков.
— Что же произошло на самом деле?
Беспорядок. Самая ужасная вещь, которая только может произойти. В то время он был не таким уж и маленьким, но ему казалось, что в доме завелось какое-то животное. Оно обгладывало обои, ножки мебели в салоне, и все жесты людей, все их поступки сделались вдруг насквозь лживыми. У причины этого медленного распада было имя — Вильгельм Тавив. Мальчик не часто встречал его, но присутствие Вильгельма чувствовалось в каждой вещи, в каждом закоулке дома, в каждом, даже самом незначительном слове. И особенно в безмолвии ночи, когда Людвиг знал, что за закрытой дверью родительской спальни отец и мать всю ночь не сомкнут глаз. С их лиц исчезли улыбки, в их отношениях уже не было прежней теплоты… Может быть, именно это и подтачивало стены дома. Ведь чтобы оставаться прочными, и фундамент, и крыша должны подпитываться, излучением счастья, а от лжи, казалось, в легких обитателей дома скапливался горящий кислород, который, извергаясь, убивал все цвета вокруг. Воздух стал слишком тяжелым и непригодным для жизни. Людвиг помнил, как летом 1937 года две ночи провел в парке, лишь бы избежать давящей атмосферы комнаты… Так Сафенберг выживал инородца, вселившего безумие в разум и тело его матери, пожелавшего вырвать с корнями из этого дома прекрасную Эльзу, некогда беззаботно порхавшую по лестницам особняка.