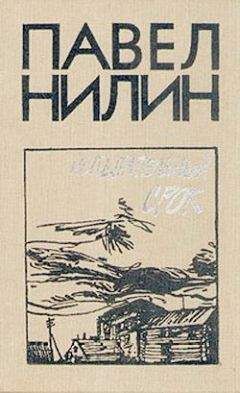— Нет, будет неудобно, если я выступлю. С чего это вдруг!
— Глупые! — точно с сожалением посмотрел на него и на меня Узелков. Это же прямое поручение губкома. Так надо. Уком уже исключил Егорова из комсомола. А теперь товарищ Сумской рекомендует сосредоточить на этом одиозном деле внимание всей организации. Поэтому нужно выступать… Это же губком комсомола в лице вот товарища Сумского обращается к вам и рекомендует выступить…
— Вот ты и выступи, — предложил я Узелкову.
Узелков засмеялся:
— Ох, какие вы странные! Я ведь могу выступить всегда. А товарищ Сумской хочет, чтобы сейчас выступали люди, так сказать, из массы…
— Вот именно, — поддержал его Сумской.
— И кроме того, я дам в газете очерк об этом деле, — пообещал Узелков. — У меня, в сущности, все написано постольку, поскольку я присутствовал на заседании укома, где Егоров был исключен из комсомола. Это собрание должно прозвучать как заключительный аккорд…
— Вот именно, — опять поддержал его Сумской. И медленно вынул из маленького брючного кармана часы на цепочке. — Надо, пожалуй, начинать…
— Пожалуй, — согласился Узелков.
А мы молчали.
Нам просто нечего было сказать.
Мы так молча сидели и в зале, когда перед нами за длинным столом, покрытым красной материей, уже разместился президиум.
Первое слово было предоставлено Сумскому. Но он долго не мог начать говорить, потому что ему долго аплодировали, хотя комсомольцев в зале сидело немного.
Тогда во всем городе комсомольцев насчитывалось не больше тридцати да в уезде еще пятнадцать или двадцать. Вот и вся уездная организация. И чуть ли не вся она собралась сейчас послушать известного Сумского.
— Я с ним учился в гимназии, — сообщил нам Узелков, усевшись рядом с нами в зале. — Он был в пятом классе, а я в третьем. Потом я ушел на производство, на аптекарский склад, а он на фронте был, на гражданской войне, в агитбригаде, и мы потеряли друг друга…
— Чего же ты его Борисом Аркадьевичем зовешь, если вы старые товарищи? — спросил я, вообще удивленный тем, что комсомольцы, хотя и старшего по возрасту, называют по имени-отчеству.
— Не люблю проявлять фамильярность, — сказал Узелков и встал. — Пойду возьму пальто. Здесь все-таки прохладно…
— А что такое фамильярность? — спросил я, ухватив его за полу толстовки, чтобы задержать.
— Вот то, что ты делаешь сейчас! — осердился Узелков. — Отпусти. Я тебе не девчонка…
И он пошел на вешалку взять пальто, хотя Борис Сумской уже начал говорить. Но Узелкову, наверно, заранее было известно все, что скажет Сумской.
— …Мировой капитализм опять грозит нам новой интервенцией. Около Якутска, недалеко от нас, все еще бродит со своими битыми войсками белый генерал Пепеляев, которого наняли американские промышленники совершить набег на Советскую Якутию, дабы они могли скупить по дешевке нашу пушнину. Римский папа размахивает своим золотым кадилом, призывая гром и молнии на наши головы. А в это время среди нас, в наших сплоченных рядах еще находятся комсомольцы, которые никак не могут освободиться от религиозного дурмана. Тут один шаг до предательства интересов пролетариата. И в этом смысле так называемое дело бывшего комсомольца Егорова весьма показательно. Поэтому нужно и необходимо приковать к нему внимание всей организации. Нужно и необходимо вскрыть до конца всю глубину падения этого человека…
Борис Сумской говорил медленно и тихо, уверенный, что его все равно будут слушать и никто не перебьет. Он говорил о том, что бюро укома комсомола поступило совершенно правильно и своевременно, исключив Егорова из рядов РКСМ. Надо, чтобы и другим было неповадно…
— Да в чем дело? — вдруг закричал Васька Царицын. — Ты сначала объясни, в чем дело! Для чего эти слова, когда мы еще ничего не знаем? Объясните, какой это Егоров? Это с маслозавода, что ли?
Зуриков, сидевший за длинным столом президиума, позвонил в колокольчик, призывая Царицына к порядку.
А Борис Сумской наклонил голову и удивленно посмотрел в зал поверх докторских очков.
— Я говорю, вы неправильно ведете собрание, — привстал на своем месте в зале Царицын. — Если есть какое-то дело Егорова, то пусть бюро с самого начала доложит собранию. А то, я слышу, тут уже какие-то выводы делаются. Это неправильно…
— Понятно, — кивнул головой Сумской. — Значит, здесь, на собрании, имеются элементы, желающие выгородить Егорова. Понятно. Но я должен предупредить, что это не выйдет. Не выйдет!
— Это имейте в виду, замечательный полемист, — кивнул на Сумского Узелков, уже накинувший на плечи пальто и опять усевшийся с нами рядом. С ним лучше не связываться. Судьба Егорова, к сожалению, уже решена.
В зале начался шум. Царицына поддержали еще три комсомольца. Зуриков, пошептавшись с членами президиума, наконец признал, что собрание ведется неправильно, не по Уставу.
Зуриков сам стал докладывать о деле Егорова.
— А где Егоров? — опять закричал Царицын.
— Егоров, ты здесь? — посмотрел в зал Зуриков.
— Я здесь, — откликнулся из задних рядов еле слышный голос.
— Пусть он выйдет, — предложил Царицын.
— Пусть он сам расскажет, как это было.
И тут все увидели высокого застенчивого паренька в черном кургузом пиджачке. Он медленно шел к столу президиума.
— Да мы же его знаем! — сказал мне Венька. — Это же Егоров, кажется, Саша, с маслозавода имени Марата.
— Ну да, — подтвердил я, — он, помнишь, тогда провожал нас на крышу, приносил лестницу.
И еще мы вспомнили, что этот Егоров занес к нам в угрозыск сумку с патронами, которую бросили бандиты, когда грабили маслозавод. Это было в прошлом году, летом.
А теперь вдруг Егоров завяз вон в какой-то истории и моргает перед собранием красными глазами; Что он, плакал, что ли? Почему у него глаза такие красные?
— Я жил у дяди на квартире, — рассказывал он, готовый и сейчас заплакать. — Это родной брат моей матери. Он выписал меня сюда, потому что я был безработный. Он очень хороший человек, но он женился во второй раз, а жена у него хотя и молодая, но очень отстала в смысле религии…
— И ты, значит, с дядей пошел у нее на поводу? — спросил Царицын.
— Выходит, что так, — согласился Егоров. — Но в церковь я, даю честное комсомольское, не ходил…
— А это что? — показал бумагу Зуриков. И объяснил собранию: — Это заявление церковного старосты Лукьянова о том, что комсомолец Егоров; теперь бывший комсомолец, участвовал в церкви в церковном обряде крещения ребенка — дочери своего дяди, некоего гражданина Кугичева И.Г.
— Это вранье! — отмахнулся Егоров. — Вот ей-богу, это вранье! В церкви я не был. А церковный староста сердит на меня, что мы под рождество проводили агитацию против религии у нас на маслозаводе. И еще перед церковью спели песню: «Долой, долой монахов, долой, долой попов…» А этот церковный староста Лукьянов был мастером у нас на маслозаводе…
— Значит, ты проводил агитацию против религии, а потом сам же участвовал в крестинах? — опять вскочил со своего места Царицын. — И самогонку пил?
— Нет, самогонку не пил, — помотал головой Егоров. Потом, помолчав, будто вспомнив, добавил: — Настойку, правда, пил. Два стакана выпил…
Все засмеялись.
— А настойка на чем была настояна? — зло спросил вечно угрюмый Иосиф Голубчик. — На керосине?
— Нет, тоже на самогонке, — признался Егоров. — Но она сладкая, на облепихе… Я ее выпил два стакана…
И повесил голову, должно быть сам догадавшись, что получилось глупо.
— Жалко парня! — сказал я Веньке, показав на Егорова. — Теперь уж он не выкарабкается из этого дела. Каюк! И зачем он признался, что пил настойку? Даже два стакана…
— Очень хорошо, что признался, — одобрил Венька, вглядываясь в Егорова. — Честный парень. А что же он, будет врать?
— Я не мог не пойти на крестины, — лепетал Егоров. И зачем-то торопливо застегивал свой кургузый черный пиджачок, будто собираясь сию же минуту уйти отсюда. — Дядя бы обиделся. Я живу у дяди на квартире. Он устроил меня на работу. Выписал сюда. И это родной мой дядя. По моей матери он мне родной. У моей мамы раньше, до замужества, тоже была фамилия не Егорова, а Кугичева…
— Это не оправдание! — крикнул Царицын и взял слово в прениях.
Он предлагал подтвердить решение бюро укома:
— Нам двоедушных в комсомоле не надо, которые живут и нашим и вашим…
Царицын сказал те же самые слова, какие говорил Венька Малышев, когда мы сидели в буфете.
Потом почти так же выступал Иосиф Голубчик. Только Голубчик больше злился, сразу назвал Егорова хвостистом и слюнтяем.
— И еще слезы тут льет, ренегат!..
— Вот это наиболее точное определение, — указал мне на Голубчика Узелков. — Егоров именно ренегат. Я лично только так бы это квалифицировал…
Ренегатами тогда часто в газетах называли европейских социалистов, заискивавших перед буржуазией.
Егоров подтянул к запястью короткий, не по плечу рукав и рукавом вытер лицо.