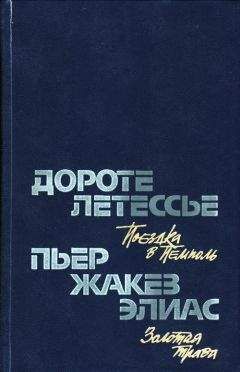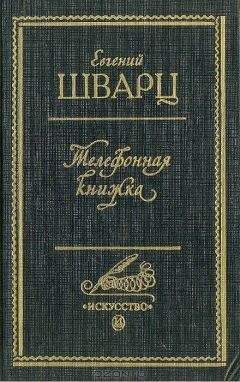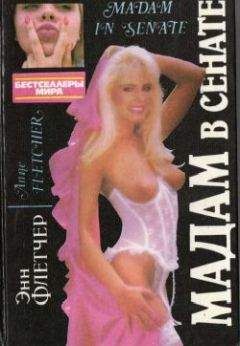— Вам повезло. Обоим, и твоему отцу, и тебе, вы прожили и жизнь крестьянина, и жизнь моряка. Думается, это — лучшая из участей. В моей юности еще говорили, что когда моряк предстает перед лучами солнца на земле, то тень его позади него имеет форму крестьянина. Когда я вижу крестьянина, который стоит на козлах своей повозки, сжав вожжи, устремив взгляд в пространство, и правит среди рытвин, он мне видится, говорю вам чистую правду, матросом на море. Но скажи-ка…
До чего же трудно извлекать звуки изо рта и еще труднее захватить достаточно воздуха, чтобы слова не получались искаженными. А грудь, того гляди, разорвется! Пока он набирает в легкие воздух, к его лицу приближается лицо Яна Кэрэ, внимательное и встревоженное. За ним видны лица двух других, несколько расплывчатые, но с тем же выражением. Что им от него надо — этой троице? Три Волхва, сбившихся с дороги, занесенных снегом.
— Что с тобой, Пьер Гоазкоз?
— Ничего. Я всего лишь подумал, что большие полотняные замки еще существуют в морском рыболовстве. Например, Конкарно…
— Знаю. Спустившись с гор, я направился именно в Конкарно. Едва я приблизился к морю, как увидел отделившиеся от горизонта три больших судна, покрытых полотном сверху донизу, они состязались на первенство прибытия в порт. Это прямо-таки ударило меня по сердцу. Но я решил, что прежде чем плавать на такой громадине, надо поучиться ремеслу на барке. Разумеется, не какой попало. А на «Золотой траве».
— «Золотой траве» уже давно нечему тебя учить.
Лицо Яна Кэрэ резко отстраняется, отталкивая вместе с собой и два других.
— Не говорите так! Будьте уверены, что мне с вами хорошо, черти вы логанские. Ну ладно! Довольно об этом. И никогда больше не будем к этому возвращаться. Никогда.
— Как тебе будет угодно, — едва может выговорить хозяин «Золотой травы».
И он закрывает глаза, прислушиваясь к своему угасанию.
Снег валит все гуще, но как бы с нарочитой медлительностью просеивается сквозь сероватый туман, который как будто становится от этого более легким. По-прежнему — ни дуновения ветерка. Свинцового цвета море совершенно неподвижно под «Золотой травой», если вода перестанет поглощать снег, барка, рано или поздно, исчезнет под белым пологом снежных хлопьев. Пока что судно еще контрастно вырисовывается на фоне тусклого, слабого света, струящегося с небес, если они еще существуют. Всего резче выделяется травель-мачта, которая кажется чем-то пригвоздившим барку к воде и именно для этого и существующим. Пьер Гоазкоз, привалившийся к рулю, уже стал похож на снеговика. Трое других стоят рядом, почти касаясь друг друга головами, словно какие-нибудь заговорщики. Время от времени один из них отряхивается, освобождая от снега свою грубую одежду. Мир вокруг них до того необычен, что они уже и думать позабыли о том, чтобы хоть как-то спастись от собачьего холода. Все молчат до тех пор, пока Ян Кэрэ не проявляет вдруг беспокойства.
— Пойду проведаю юнгу.
Он делает два шага назад и наклоняется над снежной кучей почти у самых ног Пьера Гоазкоза. Осторожно ощупав скрытый под снегом брезент, он приподнимает его краешек. Херри свернулся под ним, как в чреве матери. Ян отыскивает рукой его лицо. Вроде бы он и ощущает тепло, но не совсем в этом уверен. Он вытаскивает руку обратно, трет ее изо всей силы другой рукой и, согрев, подсовывает под пальто мальчугана, отыскивая его сердце. Сердце отчетливо бьется. Ян облегченно вздыхает и опускает брезент обратно. Что еще мог бы он сделать! На опустошенной лодке буря не оставила ничего, кроме кусочка просмоленной пеньки и паруса травель-мачты в довольно плачевном состоянии, да еще то, что сохранилось у матросов в карманах: их платки, ножи, брикеты и трубка Яна — единственная на всех.
— В порядке, — говорит Ян, — спит беспробудно.
И он добавляет, Как бы в оправдание того, что не возвращается на прежнее место:
— Останусь тут.
Неопределенным жестом он указывает на юнгу или Пьера Гоазкоза или на обоих вместе.
Он расставляет для устойчивости ноги, засовывает руки поглубже в карманы. Снаряжается для вахты.
— А я возвращаюсь на нос, — говорит Ален Дугэ, — ведь я тут не нужен. Я до того привык к своему месту, что мне не по себе, когда я ухожу оттуда. Если понадобится перейти, будет очень трудно это сделать.
— Когда ты перейдешь на корму, а этого не долго ждать, на твоей барке уже будет мотор. Не позже чем через год или два. Рабочие места все тогда переменятся. Потом появится мостик, возможно, каюта, трюм для рыбы, отделения для сетей, аппараты управления, да мало ли еще что! Тебе не составит труда привыкнуть к новшествам, которые избавят тебя от большей половины трудностей. Привет, ребята!
— А ты, Ян Кэрэ?
— Не знаю. Я закончил свое обучение. И никто больше не осмелится назвать судно именем «Золотой травы».
— Что он хочет этим сказать? — спрашивает Корантен.
— Я услышал не больше твоего. Но с Яном Кэрэ, как и с Пьером Гоазкозом, не надо торопиться. В конце концов они объяснятся. Не так ли, крестьянин?
— Правильно, матрос. Но не прежде, чем распутают узлы на своих канатах.
— Хорошо, — говорит Корантен, — я иду с тобой на нос, Ален! Мне как раз надо кое-что сказать тебе, если ты располагаешь для этого временем, вернее, желанием.
— А ты не хочешь, чтобы и Ян Кэрэ тебя выслушал?
— Я ничего ни от кого не скрываю. Но мне думается, что мысли Яна Кэрэ заняты совсем другим. Голова у него и без меня забита. Мне не хочется его тревожить. Вот в чем дело.
Они переходят на нос судна. Ребром руки сметают снег с досок и садятся под бортом, их дыхание почти сливается. Словно в исповедальне или вроде того. И Корантен начинает довольно издалека.
— Ян Кэрэ похож на мою жену. К тому же это он меня с ней и познакомил. Они — дети кузенов.
— Я бы очень хотел познакомиться с твоей женой, Корантен! Признаюсь тебе, что в Логане все были несколько оскорблены тем, что ты отправился в глубину гор, чтобы взять себе в жены крестьянку. Ты ведь осиротел в детстве, и как-никак твоя настоящая семья — мы, моряки. Мой отец не делал разницы между своими сыновьями и тобой. Если бы тебя не знали столь хорошо, могли бы подумать, что тебе вскружил голову пример Гоазкозов, которые всегда брали себе жен издалека. Но, если Элена из рода Яна Кэрэ, тогда, разумеется, нет никаких возражений.
— Послушай. В эту рождественскую ночь я должен был привести жену к твоей матери. С Мари-Жанн Кийивик все было договорено. Тебе ничего не сказали, чтобы сделать сюрприз. Эта ужасная буря все расстроила. Они, наверное, думают, что мы — уже на дне. Для тех, кто ждет затерявшуюся в море лодку, время тянется долго.
— Им куда хуже, чем нам. Пока море и ветер творят свое дело, а лодка работает, мы не ощущаем течения времени и не думаем о тех, кто дома. Теперь, когда мы здесь прочно застряли, я беспокоюсь о матери. Из четырех, имевшихся у нее мужчин, остался один я. А у меня нет никого, кроме нее.
— Элена была бы спокойна, останься она в деревне, но ведь я обещал приехать за ней, а к тому же еще и газеты. Как ты думаешь, они уже успели сообщить, что «Золотая трава» осталась в море?
— Конечно. Они до такой степени торопятся, что способны сообщить о происшествии, которое даже еще и не совершилось. Необходимо вернуться на берег не позднее завтрашнего утра. Иначе в Логане отслужат три заупокойные мессы, посчитав нас погибшими.
— Мне хочется кое-что спросить у тебя. Но вначале я должен все по порядку тебе рассказать, чтобы ты мог правильно понять мой вопрос. Слушай же: в прошлом году, когда мы стали на прикол к празднику святого Михаила, Ян Кэрэ собрался в свою горную деревню. Ему хотелось помочь там при сборе урожая картофеля. Он пригласил меня с собой. По правде говоря, я совсем не знал, как мне использовать несколько дней свободного времени, вот и отправился с ним.
— И вернулся какой-то странный — я отлично помню.
— Когда мы прибыли в его деревню, для картофеля это было уже поздно. Он был собран, и люди готовили большое ночное празднество, у них таков обычай — в ознаменование конца сбора урожая. Ян и я сделались мишенью для насмешек: мол, видали молодчиков, как работать — их нет, пусть другие работают, а пришел час веселиться — они тут как тут. На праздник нас, разумеется, пригласили, горячо предлагая не жалеть сил, которые мы сберегли, не участвуя в работе: Ян Кэрэ дал слово за нас обоих, что мы не подкачаем.
Деревня эта, — по существу, всего лишь выселки, состоящие из трех ферм, приютившихся в складке между холмами, к которым ведет лишь плохая грунтовая дорога. Но многие из тамошних жителей завоевали себе широкую известность как неутомимые певцы и танцоры. Также было известно, что для тяжелой работы они всегда" объединяются, и к тому же, когда труд закончен, нет им равных и в изъявлениях радости. Люди всех возрастов сходились к ним со всех сторон, некоторые шли пешком лье, а другие и того больше, чтобы присутствовать на здешнем ночном празднике, то есть принять в нем участие, разве только болезнь ног или еще там какая-нибудь хворь помешала бы пуститься в пляс. Зажиточные люди приезжали во главе с мэром в котелке, битком набившись в шарабаны со скамейками. Они ехали из городка, находящегося в двух километрах оттуда, на равнине. И эти приезжие были не единственными, кого разогревало пение, во всех слушателей словно черт вселялся, и ноги сами собой начинали отплясывать — ведь все они были горцами. Рассказывали, что высокие голоса поющих, их прибаутки, вызывавшие всеобщее одобрение, пронзительные выкрики танцоров заставляли звенеть ночь до самых дальних пределов кантона. Ян Кэрэ был просто неистощим, когда его расспрашивали обо всем этом его товарищи с «Золотой травы», которым нравились его рассказы. В Логане и во всех южных портах и мужчины, и женщины легко идут навстречу веселью по любому представившемуся поводу, но у них веселье выражалось по-другому, они иначе отмечали свои праздники. В приморских местностях не существует глубоких долин и высоких гор, ощетинившихся скалами. Моряки не церемонясь называют крестьян мужичьем, увальнями, вообще всех горцев — дикарями. И тем не менее разве Ян Кэрэ не производил фурора, когда у тетушки Леонии он пускался отплясывать гавот, которому научился у себя в деревне, сопровождая танец пением; куплеты он сочинял тут же, высмеивая на разные лады иногда и не совсем впопад некоторые недостатки моряков из Логана. Разумеется, он это делал самым дружелюбным образом и лишь в отместку за насмешки. Этому дьявольскому парню, который был отчаянно меланхоличен, случалось без какого-либо повода плясать гавот и на палубе «Золотой травы» во время волнения моря. Он объяснял это невозможностью избавиться иным способом, чем танцы, от вселявшегося в него порой чертика. При этом он добавлял, что когда ночной праздник в его деревне достигает наивысшей точки, то даже священники в ближайших церковных приходах хватаются за свои требники, чтобы заклясть дьявольское наваждение, которое чувствовалось в ритмах и словах, клянусь, далеко не церковных. А молодые викарии, те вставали в ночных рубашках с кроватей и босиком начинали в тишине и тайне выделывать на полу простые или сложные па гавота. Хотите верьте — хотите нет!