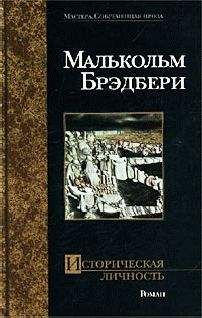В викторианской оранжерее за домом лампы теперь почти все погасли и начались ритмические танцы. Очень громко разговаривая, появляется театральная компания. Мест– борцов за нравственность пикетировала театр, держа плакаты «Храните Британию одетой!». Это разгорячило их, придало им агрессивности. Кроме того, они прихватили с собой несколько бутылок спиртного, которые щедро пустили вкруговую. Их появление придало ускорение дрейфу социальных частиц, расщеплению и синтезу. Вечеринка обрела новые помехи и возможности в новых местах. Обнаружилась еда, и коллективный аппетит разыгрался; столы, обремененные сыром и паштетом, мгновенно очистились. На втором этаже Говард ставит пластинку на проигрыватель; на первом этаже из динамиков в книжном шкафу доносится голос Джоан Баез. Тотчас появляется второй импресарио: Барбара в своем длинном розовом платье разносит оливки и соленые крендельки, приговаривая:
– Ешьте! Я еврейская мамаша.
С улицы входит, таща на веревке коричневого терьерчика, низенькая толстушка по имени Анита Доллфус, второкурсница при длинных кудрявых волосах, схваченных индейской повязкой, в очках в стальной оправе и заплатанной юбке такой длины, что ходить в ней почти невозможно. Миссис Макинтош, которая после своего своевременного появления весь вечер медленно оседала в направлении пола, уложена спать на кровати. Прошел слух, что наверху есть наркота, и общество по всему дому движется вверх. Кто-то отправился привезти гуру, который, согласно афишам, находится в городе, но который, к слову, так на вечеринке и не появится. Немецкую лекторшу в прозрачной блузке подбивают снять ее. Говард стоит на верхней площадке лестницы и сквозь очки озирает общую картину.
– У меня с женой уговор, – говорит девушке мужчина, сидящий на верхней ступеньке лестницы.
– Так говорят все женатики, – говорит девушка.
– У нас по-другому, – говорит мужчина, – моя жена про него не знает.
Низ дома смахивает на огромный музей одежды, словно все фасоны и моды былого синхронизировались и здесь, в собственном доме Говарда, конвергировались и перемешались; исполнители средневековых мистерий, исторических романтичных мелодрам, трагедий окопной войны, пролетарских документальных пьес, викторианских светских фарсов играют одновременно в едином эклектичном постмодернистском коллаже, представляющем собой чистую и открытую форму, самогенерирующий хэппенинг [8].
Говард с удовольствием спускается по лестнице, ощущая, как тупая и случайная реальность вещей таинственно преображается. Он смотрит на этих людей в полной гармонии с временами и ощущает их новизну и потенциал. Он переходит в толпе ото рта ко рту, смотрит в глаза, выслеживает современную страсть.
– Будет это подлинным вариантом вины? – спрашивает кто-то.
– Эта дивная сюрреалистическая гамма красок к концу, – говорит кто-то еще.
Внизу миссис Макинтош некоторое время назад объявила о начале схваток; и когда «стандарт-8» увез ее в клинику, поднялся порядочный шум. Божественный гнев жен учуял пример подавления, соболезнуя ее прервавшейся карьере на ниве общества, принесенной в жертву всего лишь деторождению, они разнервничались, опасаясь за собственные карьеры. Тем временем ее муж, мистер Макинтош, вернулся на вечеринку; он сидит в вестибюле у телефона с собственной бутылкой, объект созерцания и любопытства. У входной двери коричневый невоспитанный терьерчик Аниты Доллфус тяпнул новоприбывшего за лодыжку. Новоприбывший – это Генри Бимиш, который пришел пешком, растрепанный, в широкополой шляпе австралийского пехотинца, и с таким видом, будто он только что вернулся из опасного сафари. Его забирают наверх для обеззараживания, по-прежнему в шляпе, надвинутой на один глаз.
– Сидеть, Мао! – говорит Анита терьерчику.
В гостиной лица и голоса швыряют об стены исступленные звуки; это шум человека в процессе роста.
– Кантовская версия нераспутываемого сплетения перцептуальных феноменов, – говорит кто-то.
– Я на софе, потому что подшофе, – говорит кто-то еще.
У стены Барбара разговаривает с невысокой молодой брюнеткой, которая стоит сама по себе в белой шляпе и синем брючном костюме.
– Каким противозачаточным средством вы пользуетесь? – спрашивает Барбара.
– А вы, миссис Кэрк? – говорит брюнетка с легким шотландским выговором.
– О, я на Пилюле, – говорит Барбара. – Прежде я применяла «Затычку», но теперь я на Пилюле. А ваш метод?
– Он называется «Грубая сила», – говорит брюнетка.
– Коварные ходы тоталитарного сознания, – говорит кто-то.
– Ты пытаешься сбить меня с толку и устроить бардак у меня в голове, – говорит кто-то еще.
Пустые стаканы тычутся в Говарда, пока он идет на кухню за новыми бутылками.
В толпе пальцы дергают его за рукав. Он смотрит вниз на лицо худенькой темноглазой девушки; это одна из его студенток, Фелисити Фий.
– У меня проблема, доктор Кэрк, – говорит она. Говард наливает вина в ее стакан и говорит:
– Привет Фелисити. Что не так на этот раз?
– У меня всегда проблемы, верно? – говорит Фелисити. – Но это потому, что вы так хорошо их разрешаете.
– Так в чем дело? – спрашивает Говард.
– Я женофобка.
– Сомневаюсь, – говорит Говард. – При вашем-то радикализме?
Фелисити славится своей постоянной принадлежностью к авангарднейшим группировкам; она бывает то чище, то грязнее, то более разумной, то более сдвинутой по фазе в зависимости от группировки, к которой принадлежит на текущий момент.
– Я в подвешенном состоянии, – говорит Фелисити. – Мне надоело быть лесбиянкой. Мне бы хотелось жить с мужчиной.
– Вы были ярой мужефобкой, когда мы разговаривали в последний раз.
– Но последний раз мы разговаривали, – говорит Фелисити, – в прошлом семестре. Тогда я определялась со своей сексуальностью. Но теперь я обнаружила, что моя сексуальность совсем не та, с какой я определилась, если вы понимаете, про что я.
– О, я понимаю, – говорит Говард. – Ну, в этом проблемы нет.
– Нет, есть, доктор Кэрк, – говорит Фелисити. – Видите ли, девушка, с которой я живу, Морин, говорит, что это реакционно. Она говорит, что я впадаю в синдром подчиненности. Она говорит, что у меня рабское мироощущение.
– Вот как, – говорит Говард.
– Да, – говорит Фелисити, – а я же не могу быть реакционной, правда?
– Нет-нет, Фелисити, – говорит Говард.
– А как поступили бы вы? – говорит Фелисити. – То есть если бы вы были я и принадлежали к угнетенному полу?
– Я бы поступал, как хотел, – говорит Говард.
– Морин швыряет в меня туфли, – говорит Фелисити. – Она говорит, что я Дядя Том. Я должна поговорить с вами. Я сказала себе: я должна поговорить с ним.
– Послушайте, Фелисити, – говорит Говард, – существует только одно правило. Следуйте направлению собственных желаний. Не принимайте версии других людей, если не считаете их верными. Ведь так?
– Ах, Говард, – говорит Фелисити, целуя его в щеку, – вы чудо. Вы даете такие отличные советы.
Говард говорит:
– Это потому, что они близки к тому, что люди хотят услышать.
– Нет, это потому, что вы мудры, – говорит Фелисити. – До чего же мне нужна для перемены мужская грудь.
Он идет дальше на кухню. Там полно людей; из-под стола торчит мужская нога. На холодильнике спит младенец в портативной колыбели.
– Так с вашей точки зрения существует константная сущность, определяемая как добродетель? – спрашивает лидер пакистанской мысли у передового священника на фоне луковично-чесночных обоев. Проигрыватель ревет; гремящие децибелы, вопли моложавой поп-группы в течке разносятся по всему дому. Говард берет несколько бутылок вина, темно-красного за стеклом, и откупоривает их. Полная, материнского вида девушка входит в кухню и берет бутылочку со смесью для младенцев, которая грелась в кастрюльке на плите. Она пробует содержимое, осторожно капнув себе на загорелый локоть.
– Дерьмо, – говорит она.
– Кто такой Гегель? – говорит какой-то голос; Говард скашивает глаза – это безбюстгальтерная девушка, которая утром приходила к нему в кабинет.
– Тот, который… – говорит Говард.
– Это Говард, – говорит Майра Бимиш, встав рядом с ним; парик у нее слегка сбился на сторону: она гомерически хохочет. Одной рукой она обнимает доктора Макинтоша, который все еще держит свою бутылку. – О, Говард, вы устраиваете такие чудесные вечеринки, – говорит она.
– Все идет хорошо? – спрашивает Говард.
– Замечательно, – говорит Майра. – В гостиной играют в «Кто я?» и «Чем студенты займутся теперь?» в столовой и «Я родила в три, а в пять уже сидела и печатала мою диссертацию» в холле.
– А еще игра под названием «Тебе тоже было хорошо, летка?» в комнате для гостей, – говорит Макинтош.
– Звучит как описание вполне нормальной вечеринки, – говорит Говард.