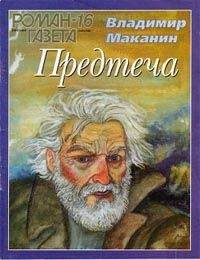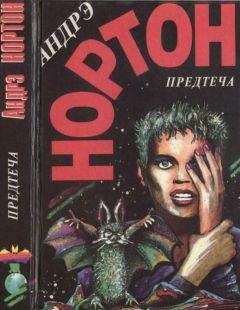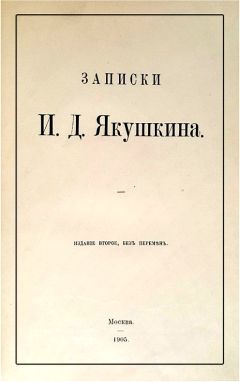Жуков Л. А. — трофические язвы. Потрясение организма неожиданным и длительным голоданием по якушкинскому графику… Язвы закрылись. Продолжает посещать…
Игушев М. М. — астма… Полное исцеление».
Ночной гений — более определенно назвать и выразить Коляня, пожалуй, не сумел бы, знахаря из знахарей (других) выделяя. Это относилось исключительно к Якушкину. Не исчерпывая, это было якушкинской особенностью — никак не характеристикой.
Спустившиеся — этаж за этажом — вниз, якушкинцы после шестичасовой беседы пока еще шли гурьбой, горсткой, как бы опасаясь и боясь отойти от старика хотя бы и на шаг. Но, конечно, прощались, рассасываясь понемногу в ночи: этот вправо, тот влево. Их оставалось трое, ну, четверо, стиснувшаяся и поредевшая горстка, и в середине старик, тихо бормочущий себе под нос, как бормочут придурки. Иссякая, он что-то еще бубнил, неиссякший, вышевеливая невнятно губами обрывочные слова. Пустеющая улица. Одинокие прохожие. Вдруг став посреди пустой улицы, старик бормотал: «Ребенок где-то плачет…» — и вел глазами по ночным окнам высоких домов, как бы всматриваясь. Однако никто не слышал — только листья скреблись в тишине по асфальту, подгоняемые дохленьким ветерком. И конечно, становилось неловко за старика, за его такие вот многозначительные вдруг остановки и озиранье домов — все тоже приостанавливались, трое, ну, может, четверо, как бы веря ему на слово. Приостановившись, вслушивались. Кто-нибудь из них говорил, вежливый, или просто кивал: да, мол, плачет… Проехал троллейбус — скрылся, и шорох шин, надолго оставшийся в ушах, означил именно ночь и тишину. Постояв из вежливости, вся горстка страгивалась с места и двигалась дальше. И тут только в затаенности ночной улицы явственно слышался плач ли, крик ли детский. «Аа-ааа…» — пронеслось и стихло. Где-то вверху. В одном из высоких домов. Оторопь, охватив, отпустила, старик же пробормотал: большой, мол, город и частые слезы, — бормотал, бубнил, шел дальше, и они рядом, локоть к локтю, все трое или четверо.
«… Сергея Степановича — нет!»
«А может, он помер? Так ты и скажи открытым текстом — тогда я другого врача искать буду!» — Мужик, почти полностью лысый и с бегающими глазами, был назойлив необыкновенно. Коляня еле отбивался. Мужик из ненужных был, из невлиятельных, и мог бы, конечно, ждать, как ждали все ненужные и невлиятельные, не звонить мог бы, нахал, и не дергать, — Коляня в эти самые дни выходил на сибирского главинжа и потому знахаря от липнущих к нему тщательно оберегал, опекая. Но лысый не отставал.
Он вынюхивал Якушкина и уже выслеживал, и тогда Коляня, осторожничая, принял его сам. Мужик ввалился очевидный, насквозь прокуренный; Коляня, и сам курец с детства, подняв глаза, увидел впервые в жизни лысину, отливающую табачной желтизной: там проступил никотин. Однако же, когда Коляня раскрыл журнальчик для записей и спросил, на что мужик жалуется, тот сказал — ошибочка, мол; он вовсе не жалуется, он, мол, как бык, но вот мама у него стара и больна, и он готов немало заплатить (тут же и выволок купюры, потрясая!), если «этот ваш творец чудес» поедет и, не откладывая далеко, матушку полечит. Не первый был из сующих деньги, не первого же Коляня одернул; лысый, ничуть не смутившийся, купюры спрятал и вскочил со стула, выкрикивая: «Поехали! Поехали!» — был в нем бесовский напор, и лысина пылала, глаза бегали. Понимая, что Якушкин против бесноватого не устоит и, безотказный, врачевать поедет (потом ищи и разыскивай!), Коляня предпочел поехать сам: на случай умыкания знахаря Коляня будет знать место. Моментально, как маг, лысый усадил в такси. В машине он шептал, весь громкий и жаркий: «Вы же ассистент чудотворца! Вы тоже кое-что смыслите в леченье — так что…»
Он многозначительно прищелкивал пальцами, минутой же спустя шептал открытым текстом: — Ну, если и впрямь заговоры и зелья помогут — озолочу!» Лысый был из тех напористых, что суют тебе деньги, потом прячут, потом, конечно, вновь суют.
Они приехали — в обычный высокий дом на окраине Москвы. Старуха жила одна: дотягивала, людям не жалуясь, одинокую свою старость в затхлой квартирке. Из немалого, как выяснилось, количества детей здесь ее навещала лишь вот эта напористая лысина.
Старуха и встала, и спросила о погоде, и, захлопотав, поползла по кухне вконец разношенным телом. «Да ты полежи, мама. Полежи!» — приказывал желто-лысый сын, однако она собрала тряскими руками кой-какую снедь на стол, со вздохом, но и со значительностью села, после чего им обоим ничего тоже не оставалось, как сесть и перекусить, как бы с дороги. Пока они жевали, старуха ахала и охала, что жист пришла к точке, зачем же лечиться. «… И чего ты человеку голову морочишь — деньги потратил, в такую даль привез!» — ахала и охала она притворно, но уже пятью минутами спустя ей, задыхающейся, стало плохо, и в уборной ее рвало непритворно. Лысый настаивал, чтобы мама разделась и чтобы ее осмотрели, однако старуха не далась, да и Коляня промямлил: он, мол, не врач — помощник, приехавший лишь выслушать ее для начала и именно со слов записать недуги. Старуха же и рассказывать отказалась, старуха была кремень. С тем Коляня и уехал, под занавес увидев восхитительную семейную сценку, где старуха вскрикивала: «Не трать попусту деньги, сынок!» — а лысый орал: «Ты, мама, с ума сошла — зачем же я этого недоумка вез через всю Москву!»
В такси лысый не замолкал, он, мол, сам расскажет и опишет мамины недуги Коляне. Неистощимо напористый, он умел давить, умел настаивать, и машина встала, и Коляня вдруг оказался, или, лучше, вдруг обнаружил себя в ресторане за столиком, где темнел коньяк и белели закуски, — лысый же, сидя напротив, без умолку говорил о том, как он любит мать.
Коляня пил мало, был, спохватившийся, начеку, а лысый наседал: «Я ведь тебя ублажаю. Не ублажу тебя — твой чудотворец мне не поможет, верно?» Появилась, как из рукава, толстая девица, которую лысый маг, оказывается, загодя пригласил сюда, к этому самому часу. «Какая кормa! — громко шептал лысый. — Нет, ты же мужик, ты же молодой мужик, ты оцени, как-кая к-кормa!» Толстуха, впрочем, была здесь ровно пять минут. Горделивая, она пить пила, но слова слышала, — расслышав, влепила лысому оплеуху и ушла. Чуя поздний час, Коляня порывался встать, лысый не отпускал — в параллель же (слово Коляне, два — ей) напористый лысый уговаривал дамочку лет тридцати пяти, сидевшую в одиночестве, неподалеку. Он перетащил ее за их столик и, без умолку болтая, вливал в нее коньяк, путал, хитрец, свою и не свою рюмки. Он уговаривал дамочку полюбить его, лысого, но умного. Коляне он мигнул. «Глупенькая, — клеил он дамочку, — они все тебя только до утра хотят, а я много дольше: я женюсь. Не смотри, что я лысый, я очень и очень умный — ну как, поладим?» Дамочка к минуте была уже совершенно пьяна. Глаза у нее не промаргивали, застывшие и мутные: она молчала. Она оцепенела. «Ну поладим? — спрашивал неугомонный лысый. — Зачем тебе безденежные людишки, зачем нам голытьба?» Он, забыв о Коляне, вошел в роль, близкую теперь к нежности. Он трогал ее за руки, крутил на ее пальце колечко. Вдруг выпав из глубокого молчания, она хрипло сказала:
— Ладно, если умный, я сделаю тебя доцентом в пединституте, хочешь?
Бред был как бред: общий. Она добавила:
— Сделаю доцентом. У меня там есть концы (связи)…
Сбросив ночную очумелость, Коляня встал, прошелся будто бы к оркестрантам, после чего исчез.
Лысый умыкнул Якушкина — на следующий же день.
Бесноватый за ночь, по-видимому, уже сообразил, что Коляня — помеха. Он подстерег знахаря на улице, в одиночестве; уговорив на третьем слове, он впихнул старика в такси и, разумеется, крикнул: «Шеф, гони!..»
Якушкин же был в отличной форме — в самой говорливой своей полосе, и склонить к врачеванию его ничего по нынешним временам не стоило: стоило слов. Якушкин уже в такси забубнил о душе, о том, что хапать не надо и что болезни не что иное, как мщение совести нашей за нашу же бездуховность. Лысый согласился, он старательно поддакивал: «Да, конечно… Да, доктор, вы совершенно правы…» Когда вылезли из машины, выяснилось, однако, что старенькой больной мамы нет и вообще мама тут не живет. Он привез Якушкина совсем в другой дом: тут жил приятель лысого, тоже, кстати, сильно лысеющий, — у лысеющего болела собака. Был это прекрасный черный пудель, попавший под колеса грузовика и кое-как ветеринарами склеенный.
Едва оторопь прошла, Якушкин впал в гнев: любовь к собакам, как известно, в те дни его раздражала. «Я учу людей любить друг друга!» — вскрикивал разъярившийся знахарь, он накричал и был плохо понят; ушел оскорбленный сам и оскорбивший лысеющего хозяина. Сказалось веянье: любовь к собакам только что и триумфально вошла в большой город. У людей, занятых и нервных, обнаружились неисчерпаемые запасы любви к животным, что и раздражало старика-максималиста, жаждавшего направить любовь на человека впрямую, а не через. Соответствующие книги и фильмы об умирающих добрых собаках уже появились, вооружив. Якушкин же и глянуть не захотел на несчастного пуделя, который сутки за сутками не принимал пищи. Пес лежал на чистой подстилке, скуля — тихо и обреченно. «Соба-ака?» — кричал топчущийся в шаге от пуделя знахарь, оскорбленный же хозяин кричал на лысого: «Кого ты ко мне привел? Ты же нечеловека привел!» — «Дам деньги — он пса вылечит: он все может!» — вопил, вплетаясь, лысый, вынимал и прятал купюры в карман и вновь — вынимал. Якушкин ушел.