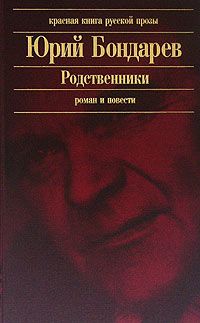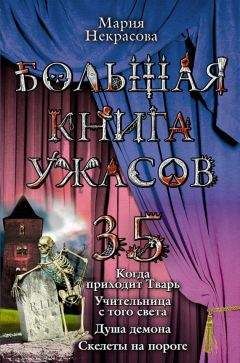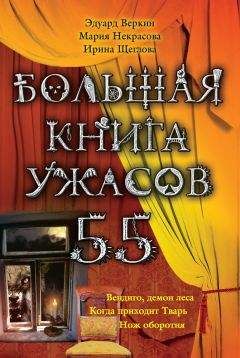— Как вы смеете? Как вы могли произнести эти слова?.. — замирающим шепотом забормотал Греков, дыша ртом, как при сердечном приступе, и рукой с прыгающими очками в ней указал на кресло. — Садитесь. Немедленно сядьте. И послушайте, послушайте… Вы в ужасном заблуждении. Это преступно по отношению ко мне!.. Это преступно!..
Никита видел, как пальцы Грекова поползли к жестяной коробочке на столе, покопошились, отвинтили крышечку; белая таблетка валидола стукнула о зубы, и Греков некоторое время, откинув назад голову, сосал таблетку, глотал слюну, и опять донеслось то странное мычание какого-то невнятного мотивчика, какое возникало все время в паузах.
«Ему в самом деле плохо? Или что это с ним?» — подумал Никита, уже потерянно оглядываясь, ища глазами графин с водой; но графина в кабинете не было.
Мычание прекратилось. Греков пошевелил головой, выдохнул воздух, печально улыбаясь.
— Лучше… лучше, — шепотом произнес он, с благодарностью больного кивая. — Отошло… Стенокардия. Я вижу, вы раскаиваетесь в своих словах. Спасибо, спасибо… Что ж, я могу понять. — Он тихонько перевел дыхание. — Я тоже в молодости рубил сплеча. И только потому, что мне не нравился чей-то нос, глаза, уши.
Никита молчал.
— Послушайте, ради бога, письмо… Вы просили, а я не могу вам его отдать, — обесцвеченным голосом заговорил Греков и слабо вздохнул, утомленно опустив молочно-белые веки. — Оно адресовано мне. Но я прочитаю его. До последней строки. И вы поймете… Это записка о вас…
И он мягким, щупающим движением, словно и это приносило ему боль, надел очки, с мелким дрожанием пальцев вытянул письмо из конверта. Глядя на строчки, он долго молчал, несколько раз провел ладонью по нагрудному кармашку, успокаивая сердцебиение, стал читать скорбным и тусклым тенорком:
— «Не удивляйся этому письму. Все, что было между нами, ушло в прошлое. Все прошло, как во сне.
История, надеюсь, будет справедливым судьей, каждому воздаст должное.
Об одном прошу тебя. Помоги моему сыну Никите, если это в твоих силах. Я не могу обманывать себя, да и сейчас нет смысла, я слишком хорошо знаю, что скоро он останется один, а мы все-таки родственники. Если это в твоих возможностях, помоги ему. Не деньгами, нет, но хотя бы переведи его в Московский университет (в Ленинграде он один) и хоть раз в полгода узнай, как он живет, что делает. В его возрасте все может быть, ты понимаешь. Прошу, умоляю тебя. Вера».
Когда Греков прочитал последнюю строчку: «Прошу, умоляю тебя. Вера», — голос его споткнулся, увеличенные под стеклами очков глаза, выпуклые, в скорбной неподвижности застыли на лице Никиты. Греков пробормотал:
— Вот оно, какое письмо…
И Никита, глядя на стену поверх головы Грекова, не мог ничего выговорить, слова комком ссохлись в горле. Сидел, опустошенный, подавленный, готовый заплакать, его разум не верил и искал страшного тайного смысла в том, что он услышал сейчас, но ничего не было страшнее, неправдоподобнее этих трех слов матери: «Прошу, умоляю тебя». Нет, он не хотел поверить в это! Он знал, что у нее никогда не было никакой переписки с родственниками. И только в последние месяцы своей болезни она вспомнила покойную свою сестру Лизу. «Прошу, умоляю тебя…» Нет, даже в больнице она убеждала его, что у нее совершенно закаленное здоровье, но вот это лежание и чтение на больничной кровати очень похожи на отдых, который ей необходим…
Он понимал, что мать обманывала его. Она чувствовала приближение смерти, как чувствовали ее и другие, кто лежал в этой палате. Он видел, как все тоньше, все суше, медлительнее и прозрачнее становилась ее рука, вытянутая поверх одеяла, а глаза, ставшие темнее, углубленнее, наполовину занимали лицо, не выпуская его из поля зрения, беспокойно расширялись, спрашивали его о чем-то. Потом, робко погладив его колено, она отворачивалась к стене, пряча лицо. В те минуты он ожидал увидеть на ее щеках слезы, все сжималось в нем от любви и жалости, от бессилия помочь ей, от неотвратимости самой чудовищной несправедливости, которая может случиться с матерью, но на ее щеках не было слез, лишь дрожало горло.
Уходя из больницы, он подолгу простаивал перед железной оградой, сидел на каменном парапете, курил до сухости во рту, ничего не видя. Весь мир суживался тогда на этом дрожащем ее горле.
И Никита, готовый сейчас заплакать от тоскливого бессилия, посмотрел на Грекова. Греков сутулился, осторожно трогая записку матери, пожевывая губами, и странный звук не то задумчивого мычания, не то стона дошел до Никиты. И то, что письмо матери три дня лежало у Грекова в сейфе и было сейчас у него, и то, что письмо это ради него, Никиты, было написано матерью, до последнего дня скрывавшей перед ним страдания и боль своей смертельной болезни, — все это так оголенно и несовместимо представилось ему, что стало трудно дышать.
— Это не так…
— Вы сказали…
— Это не могла написать моя мать… — проговорил с отчаянием Никита, не различая своего голоса; голос сливался во что-то глухое, отрывистое, темное, и он договорил: — Покажите… Дайте письмо…
— Пожалуйста.
Он неясно видел, как Греков, отодвинув кресло, вышел из-за стола, потом вельветовая курточка, длинная, темная, с прозрачными, гладкими, как леденцы, пуговицами, задвигалась, приблизилась, заслонила световой столб, сбоку падающий из окна; близко зашуршал, заколебался тетрадный листок бумаги, насквозь просвеченный солнцем, расплывались чернилами косо и крупно накорябанные строчки; как будто писал ребенок. Звучал рядом голос Грекова:
— Мы много спорили с Верой в юности в двадцатых годах. Были молоды, наивны. До глупости ершисты. Как я жалею теперь! Как жалею! Она никак не могла этого забыть. История давно нас рассудила. Оба были не правы. Не правы.
Тетрадный листок колебался в руке Грекова, как бы темно заслоняя и едва уловимый тихий его голос, и солнечный свет на его курточке, пахнущей чем-то душным и горьким.
«Прошу, умоляю тебя. Вера» — мелькало перед глазами Никиты. Он прочитал последнюю фразу несколько раз; слова эти были действительно написаны матерью, и этот вырвавшийся ее крик боли сразу вызвал в нем ощущение, которого он испугался. Это было отчаяние, смешанное с отвратительной ему жалостью к странно косым, крупным строчкам, к этой унизительной мольбе о помощи, точно мать, которой он верил, заставила его присутствовать при чем-то постыдно страшном, цинично обнаженном, как будто ее раздевали перед ним.
«Не может быть! Она это сделала для меня! Для меня! И ни о чем другом не думала! — начал убеждать он себя. — Она уже не понимала, что делает! Наверно, она написала записку в полусознании».
— Это не так, — опять повторил с упрямством Никита охрипшим голосом.
— Позвольте, — вскрикнул тенорок Грекова, и его серебристые «молнии» на кармашках курточки змеисто заскользили перед лицом Никиты. — Вы забыли почерк своей матери? Что? Здесь подпись! Позвольте, позвольте!
И это неожиданное «позвольте», произнесенное Грековым с возмущением оскорбленного человека, которого неуважительно затолкали в толпе чужими локтями, и эти перекосившиеся на его курточке «молнии», и этот горьковатый запах вельвета, и колеблющийся, как доказательство, в его пальцах тетрадный листок, косо исписанный фиолетовыми чернилами, вдруг со злым отчаянием стиснули что-то в Никите. И с мелькнувшим чувством страха от того, что сейчас сделает, он заговорил, ужасаясь тому, что говорит:
— Вы струсили и предали мать… а вы хотите, чтобы она вам все простила! Она в бессознании вам… Она уже не знала, что пишет, а вы думаете, что это доказательство. Вы думаете, я не знаю, что вы сделали с матерью… Вы ее предали… Вы ее никогда не любили, вы ненавидели ее!..
Он говорил и слышал дрожь своего голоса, ставшего незнакомым, обрывистым, ватным, чувствовал оглушительные удары крови в ушах, туманно видел искаженное, белым пятном отпрянувшее куда-то в белесую дымку лицо Грекова. Потом кто-то широкоплечий, маленький, с мотавшимися седыми волосами вскочил за столом, трясясь, прижав одну руку к груди, и пронзительно-голубые глаза ищуще метались на молочно-белом лице; и почему-то появилась палка, крепко зажатая в другой сухонькой руке этого человека, стучала в пол, и толкнулся оттуда, от стола, задушенный крик:
— Вон… вон из моего дома, мерзавец, молокосос! Я хотел, как родственнику… Вон сейчас же!..
— Ошиблись, — проговорил Никита. — Какой я вам родственник!
И, оттолкнув с пути кресло, пошел из кабинета по красно расплывшемуся цветными пятнами ковру, такому толстому и мягкому, что увязал в этой мягкости, как в густой пыли.
В дверях кабинета он на миг задержался. Возле портьеры, широко расставив ноги, засунув руки в карманы, вошедший на крик Валерий в упор, с изумленным прищуром глядел на Никиту, и Никита, резко отдернув портьеру, вышел из комнаты. Затем в полутьме коридора скользнула вдоль стены знакомая белая фигура Ольги Сергеевны, ее оголенная рука стискивала халат на груди, и вытянутое мраморное горло ее было напряжено, губы шептали исступленно: