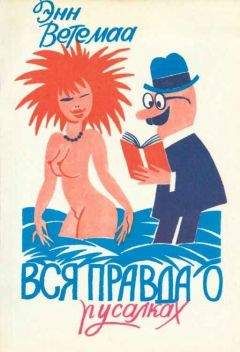Чтобы читатель мог с легкостью следовать за нами и понять происхождение модных ныне теорий превращения, начнем с весьма далекой на первый взгляд области — с генезиса русалок.
В любом курсе биологии вы непременно встретите схему эволюционного развития в виде родословного древа. Двигаясь по «веткам» этого древа к «корням», мы обнаружим среди своих далеких предков симпатичных кистеперых рыб и другие экзотические существа; старательно ведя пальцем вниз, мы можем выйти на шустрых одноклеточных. Ни в одном трактате о русалочьих (равно как о колошматниках, водяных и прочих нечистых) вы подобного родословного древа не отыщете. Но от кого же тогда произошли русалки? Этот вопрос напрашивается сам собой. Однако пока оставим его без ответа.
«Эволюционное древо» — плод большой работы палеонтологов. В окаменелостях они нашли множество примет колоссального трудолюбия животных: поколение за поколением прилежно растили они крылья и лапы, обзаводились изрядными легкими, безотказными гениталиями. Эволюция — господь бог природоведов — запустила в ход машину развития, корректировала ее посредством мутаций, и все пошло-поехало, пока наконец на планете не появились мы с тобой, дорогой читатель. Мы ужасно этим гордимся и даже пытаемся объявить себя венцом природы. Эволюция, конечно, штука поразительная. Но еще больше поражает нас то, что в окаменелостях любых эпох, как бы далеко или близко они от нас ни отстояли, мы не обнаруживаем ни малейших признаков существования русалок. Не найдено ни единого кусочка янтаря с русалочьей куделькой, ни одной хвостовой косточки в поверхностных или глубинных пластах. В чем же дело? Ведь можно было бы солидаризоваться с каким-нибудь вульгарным материалистом, который делает из этого обстоятельства жесткий вывод, будто русалок вообще не существует; конечно, можно, да как же это сделаешь, когда в числе твоих знакомых немало славных русалок, которые посвятили тебя в обычаи своего народца и с которыми ты ходишь музицировать по вечерам. Именно над вопросом происхождения русалок бились многие выдающиеся наядологи в тридцатые годы. Однако, сколько бы тучи ни хмурились, солнышко все равно проглянет: трудно сказать, кто из исследователей оказался тем счастливчиком, которого осенило серьезно обратиться к новейшей физике.
Англичане признают приоритет за профессором Мермейдом, французы убеждены, что великий переворот в русалковедении свершил академик Наяд. Но разве так уж важно, кому отдать пальму первенства? Несомненно лишь то, что названные ученые, как и другие смельчаки, каждый своим путем пришли к твердому убеждению: именно отсутствие останков является одним из убедительнейших доказательств существования русалок! Как расправился Колумб с капризным яйцом или Александр Македонский с гордиевым узлом, так и они ничтоже сумняшеся разрешили русалкодилемму: «Если у нас нет костей и скелетов, если мы и волоска русалки не находим в янтаре, — рассуждали они, — то это свидетельствует не об отсутствии русалок, а о том, что у них вообще не бывает останков!»
— Материя превращается в энергию, — утверждал один.
— Аннигилирует, — добавлял другой.
— Классическая физика не объясняет явлений, происходящих в атомном ядре. И в мире русалок нам не обойтись без свежих идей, — декларировал третий оригинальный мыслитель на очередном симпозиуме.
Разъехавшись по домам, они со свойственной им страстностью взялись за разработку новых теорий, адекватно вникнуть в которые нам не дано в связи с крайней скудостью математических знаний.
Автор настоящего определителя с грустью отмечает, что и он однажды чуть ли не вплотную подошел к постижению истины. До сих пор вспоминаю ту встречу со скромной полоскуньей-тряпичницей, своей старой знакомой, когда на исходе одного прекрасного дня она украдкой смахнула слезинку и сказала, задумчиво поглаживая мои волосы: «Такая тоска берет, как подумаю, что тебя уже скоро не станет…»
Само собой разумеется, я с негодованием запротестовал, сказал, что чувствую себя прекрасно, усердно закаляюсь по системе Мюллера, не употребляю алкогольных напитков, предпочитаю сырую пищу, причем каждый кусочек прожевываю, по Флетчеру, тридцать два раза, и не позволяю себе никаких излишеств в некоторых других отношениях.
— Конечно, ты можешь каждый кусочек прожевывать хоть сто раз, но больше ста лет все равно не проживешь. Настанет день, когда я буду лить слезы у бездыханного тела… — Подружка всхлипнула.
— А разве не может случиться, что ты умрешь раньше меня? Ты ведь буквально гробишь себя, целый день отстирывая тряпки, — возразил я.
— Ты когда-нибудь видел мертвых русалок? Или хотя бы слышал о них? — усмехнулась она.
На этом наш разговор прервался. Пуще прежнего принялась она жамкать мою рубашку, а я поплелся в кусты за хворостом для вечернего костра. Последняя фраза русалки не шла у меня из головы.
В самом деле, никто не упоминает, что видел почивших вечным сном русалок. Вся наядологическая литература, весь русалочий фольклор промелькнули перед моими глазами — ни единого слова о мертвых русалках. А ведь водоемы протраливают, кое-где озера пересыхают, но чего нет, так это их останков. Нигде! И еще я стал думать о том, что никто не говорит о русалках, которые со временем постарели бы, — многие поколения исследователей неизменно наблюдали тех же самых русалок в тех же самых водоемах. И затем мне пришел на ум еще один факт: беременных русалок тоже никто нигде не описывает. Еще со времен Гомера. В чем же дело?
Но русалка так мне прямо и не ответила на мой вопрос. Сказала лишь, что у нее «такое чувство», будто она «всегда была такая», и добавила: «Мы, полоскуньи, не любим умствовать — это мешает стирке».
— И ты всегда помнишь себя такой, как сейчас?
— Какой это? — лукаво спросила она.
— Ну, отскребывающей тряпки… — Я догадался все-таки добавить: — Такой работящей и милой дамой в полном расцвете сил.
Эта моя фраза порадовала ее. Она улыбнулась.
— Да, в последнее время я все такая же… если только какой-нибудь фортель не выкину.
— Фортель? — удивился я. — Какой еще фортель и как ты его выкидываешь?
— Что ты все выспрашиваешь…
Как видно, ей было неловко, она явно раскаивалась, что вообще упомянула о фортеле. Но мой интерес был подогрет, никак не хотелось оставаться в неведении. Я так и этак подкатывался к русалке, высказывал соображения, что ей вполне пошли бы замысловатые фортели, что я давно восхищаюсь веселым и остроумным нравом подруги, более того — готов заключить пари, что наряду с блистательным искусством стирки она способна на многое другое, пока наконец она не задумалась и не посвятила меня в свою тайну.
— Ну… если я сильно захочу, то могу обернуться…
— Да? Неужели? А… во что? Во что ты можешь обернуться? Сдается мне, во что-то очень красивое…
Но скромная полоскунья-тряпичница все еще не хотела раскрыться до конца. Очень осторожно, на ее взгляд, стала она зондировать почву:
— Я… я не знаю, стоит ли тебе говорить. Я не знаю, как ты отнесешься к снопу соломы…
Я тут же красноречиво и витиевато стал говорить о большой любви к соломе, припомнил детские шалости в золотистой, похрустывающей соломе, которую по старинному обычаю расстилают под Рождество на полу избы, первые юношеские страхи и переживания на шелестящей соломе чердаков, упомянул еще о важности соломы в качестве подстилки для коров и о переработке ее в резку, весьма ценный корм для скота.
Кажется, два последних примера не очень понравились скромной полоскунье. Все же, убедившись в моей любви к соломе, она наконец вымолвила, что почти готова признаться, что она иногда обертывалась… нет, она все-таки не решается сказать, во что… Когда же я, положив руку на сердце, заверил ее, что из всех воплощений, по-моему, самое прекрасное — это воплощение в сноп, она, покраснев, сказала, что когда-нибудь потом, а может быть, и довольно скоро, откроет мне всю правду. И через час в самом деле прошептала мне на ушко нечто совершенно потрясающее, а именно, что она время от времени увлекается короткими перевоплощениями в сноп. Но делает это только в самом крайнем случае, когда считает нужным призвать людей к порядку. И вообще, лучше мне об этом позабыть и Боже упаси кому-нибудь рассказать!
— Кого призвать к порядку? Уж не тех ли, кто ворует сено? — спросил я, ибо давно выучил наизусть все истории, приведенные в классическом труде Эйзена «Книга о русалках».
— Откуда ты знаешь? — оторопела она. — Я же никому не рассказывала.
Тут уж мне представилась возможность выразить свою обиду и заметить, что вовсе я не первый человек, кому она это поведала. Она стояла на своем и клялась, что я самый-самый первый. Когда же я несколько оскорбленно и ревниво спросил, разве она не помнит Яана Роотслане из Вынну… скромная русалочка стала утирать глаза. Да она никогда слыхом не слыхивала о Яане Роотслане, знать такого человека не знает и предположить не могла, что он таким болтуном окажется…