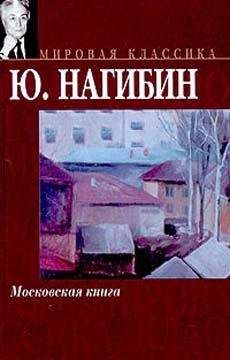Я не ошибся в немце, хоть он не был ни революционером, ни докером. Он что-то строил на Волге и в Москве находился проездом. Он восторгался нашей столицей, где «Европа обнимается с Азией», а по ночным улицам бродят мальчики, свободно говорящие по-немецки. Он еще что-то лопотал, но я перестал его понимать. Он говорил слишком быстро и злоупотреблял произношением.
Немец, конечно, понятия не имел, где находится Покровка. После того как я пресек его попытки увести меня назад к Яузе, мы, слегка поплутав в окрестностях монастыря, оказались в Старосадском переулке. Возле немецкой кирхи я сказал, что теперь дойду сам. Я чувствовал, что ему хочется вернуться к монастырю. На кирху он и внимания не обратил.
Немец настаивал на том, чтобы довести меня до самого дома. В этой деликатной борьбе победил я. Мы расстались сердечно. Через несколько минут я был на Покровке. И тут — будто напророчила сердитая кондукторша — я попал в лапы милиции.
По тротуару, от церковки Косьмы и Дамиана, что на углу Старосадского, шагал, четко печатая шаг, молодой милиционер в расчищенных до блеска сапогах. Он весь горел, сверкал, скрипел, потрескивал складской новизной. Дежурил новоиспеченный страж порядка или просто вышел в новенькой форме покрасоваться перед фонарями и звездами — кто его знает. Заметив меня, он свернул под прямым углом и заступил мне путь.
— Что такое? — произнес он грозно. — Детям спать положено! — Его широкое лучезарное, хоть и прихмуренное от сознания своего величия деревенское лицо тоже скрипело мужественной игрой желваков, сцепом челюстей, крепостью скул.
— Я заблудился! Вон мой дом! — Я махнул рукой на видневшийся в глубине Армянского переулка угол моего дома.
— Заблудился? — недоверчиво повторил милиционер. — Адрес местопроживания? — От него крепко и вкусно пахло кожей, сукном, ваксой и тройным одеколоном.
— Армянский, дом девять, квартира сорок четыре. А по Сверчкову и Телеграфному — дом один, а квартира тоже сорок четыре.
— Это как понять? — удивился и вроде обиделся милиционер. — Адрес только один должен быть.
— А у нас три адреса, — сказал я с достоинством. — Наш дом в три переулка выходит.
— Надо же! — Милиционер хлопнул себя по ляжке, обтянутой синей диагональю. — Только в Москве такое бывает. Три адреса! Ну и городишко!.. Пошли! — И он взял меня за руку.
В испуге я рванулся прочь, но не тут-то было.
— Спокойно! — сказал милиционер. — Обязан, как неподросшего, перевести на другую сторону магистрали.
Он вынул свисток и, хотя улица была пустынна, легонько свистнул, останавливая воображаемое движение.
— Перекресток у Сверчкова осилите или проводить? — спросил милиционер, когда мы оказались на той стороне.
— Осилим, — польщенно сказал я.
— Поглядите налево и начинайте движение. Достигнув середины проезжей части, поглядите направо и, если нет транспорта, продолжайте путь. — Он опять счастливо улыбнулся и козырнул.
Я выполнил его указания и через несколько минут, вихрем взлетев по темной лестнице, дернул веревку колокольчика у наших дверей. Я думал, что долго протомлюсь на лестничной площадке. К нам был один звонок, вернее, один треньк колокольчика. Ржавый и копотный, он давно утратил былое звонкоголосье. Разве услышишь одинокий щелк язычка? А станешь частить, обязательно примчится Данилыч, на ходу напяливая гимнастерку, в надежде, что началась мировая революция и ему предстоит вести полки, или директор подвальчика «Медведь» Фома Зубцов, тепло одетый, с пакетом в руках, тоже в полной готовности, но отнюдь не революционной.
Напрасно я беспокоился. Едва раздался слабый треньк, дверь распахнулась, — мама и Вероня давно уже поджидали на кухне, когда принесут мой изуродованный труп. Мне всегда предоставляли слово, прежде чем подвергнуть казни. Я быстро рассказал, что произошло.
— Вот что значит лезть с черного хода… — Мама вздохнула, не докончив фразы, но я очень хорошо понял, что она имела в виду.
Прежде чем лечь в постель, я немного постоял у окна, глядя в лицо ночи, переставшей быть страшной. Почему я так боялся ее? В тихой, темной пустынности бродят странные добрые люди, которые не дадут тебе пропасть. Я мысленно пожелал им спокойной ночи: гордой молодой женщине, бывшему военному, которому не спится в мирной тиши, очарованному Москвой немцу и новоиспеченному стражу столичных улиц…
А на другой день вечером я снова пошел в ногинское полуподвалье. Я уже все решил про себя и лишь должен был убедиться, что страх ни при чем в принятом решении. Я был влюблен в свою ночь, но моя готовность к повторению пережитого нуждалась в проверке. И я понял, что боюсь трамвая № 21 и, наверное, долго буду бояться, но это не беда, потому что вскочу на него по первому же внутреннему посылу, не задаваясь вопросом, в какую сторону он идет. В таких делах я не обманывал себя.
Теперь, когда я знал, что больше не приду сюда, полуподвальные ребята казались мне куда симпатичнее. В них не было ни зазнайства, ни гонора, они просто не понимали мальчика, бросившего школьных друзей, чтоб пролезть в пионеры, как сказала моя мать, с черного хода. Их настороженное чувство ко мне шло от душевной опрятности. Мое время еще не настало. Красный галстук не даст мне другого сердца, я сам должен его обрести, тогда все сбудется. А для этого не нужно царапаться в чужие двери.
Я никому не сказал, что ухожу. Я исчез незаметно, когда все упоенно горланили «Юного барабанщика». И во двор долетало:
И стих наш юный барабанщик,
Его барабан замолчал…
Я не жалел, что расстаюсь с ними, но к легкости, какую мне сообщило принятое решение, примешивалась печаль. Я буду помнить тихое лицо Рубинова, но меня тут никто не вспомнит. А это плохо. Надо оставлять какой-то след в душах тех, с кем тебя сводит жизнь.
Иван был сыном тети Поли. В те годы в каждом большом доме обитала такая вот тетя Поля. Не имея постоянной работы, она нанималась поденно: мыть полы, стирать белье, присматривать за детьми, ухаживать за больными. Перед майскими праздниками тетя Поля надраивала окна в квартирах, далеко высовываясь наружу, будто повисая над глубью двора с его чахлым сквериком, винными подвалами и громадными битюгами, впряженными в широкие, присадистые телеги. Приглашали тетю Полю еще для одного дела: обмывать покойников. Непонятное и жутковатое занятие это наделяло тетю Полю таинственной значительностью. И хоть была она маленькая, тощенькая — соломинкой перешибешь, — ее не отваживались задирать даже такие отчаянные смельчаки, как Вовка Ковбой. А поводов для задирания тетя Поля давала достаточно: она была богомольной и пьющей. Не монашка, конечно, и не пьяница, но служила и Богу, и зеленому змию. Она хаживала в церковь не только на престольные праздники, но и в обычные, будние дни, святила кулич и пасху, ставила свечки, размашисто крестилась, заслышав колокола старинной церкви в Армянском переулке, и самыми страшными ругательствами в ее устах были «нехристь» и «язычник»…
Выпивала тетя Поля только под воскресенье и на большие советские праздники, но уж непременно. И тогда, молчаливая, замкнутая до угрюмости, она становилась общительной, разговорчивой, даже хвастливой, хотя маленькие глаза ее оставались такими скорбными, будто она вот-вот разрыдается. Но никто не видел тетю Полю плачущей, как никто не видел ее улыбающейся. Она остановилась на пороге улыбки, как и на пороге слез.
Тетя Поля прибыла в наш дом на смену тете Варе, выполнявшей до нее те же обязанности. Тетя Варя, совсем постарев, уехала доживать век к дочери в деревню, а в ее комнату, вернее сказать, каморку под лестницей по прошествии малого времени вселилась тетя Поля. Это событие памятно мне потому, что во дворе появился новый мальчик Иван, сын тети Поли. Конечно, ничего потрясающего в этом не было, но каждый новый жилец пользовался повышенным вниманием, пока не обретал того или иного места в сложной дворовой иерархии. Я говорю, разумеется, о своих тогдашних сверстниках, но и у взрослых все обстояло сходным образом.
Надо сказать, ассимиляция тети Поли произошла куда проще, нежели ее сына. Самое место вселения сразу определило общественный и социальный смысл тети Поли, и дом, начавший болезненно чувствовать отсутствие тети Вари, обрадовался ее преемнице. И не зря: тетя Поля по всем статьям превосходила болезненную, старчески немощную тетю Варю. Двужильная при своей худобе и малорослости, добросовестная, опрятная, кристально честная и вовсе не жадная к деньгам, тетя Поля ворочала за двоих…
Иван был предметом великой и единственной гордости тети Поли. Когда субботняя стопочка пробуждала в ней душу для общения, доверия и радости, она только о нем и говорила. И какой он послушный, и какой тихий, и какой благодарный. «Ей-богу, сызмальства такой! — удивлялась она. — Всякое дитя грудь просит, а мой хоть бы пискнул. Не покорми его, так без звука и помер бы!» Если верить тете Поле, выносливая кротость младенца Ивана превосходила подвиги первых христиан. Оставленный ею как-то на морозе, он развязался и «аж посинел весь, уж и сердчишко замерло», когда вернулась мать, но и тут не кричал, не взывал о спасении. Другой раз его, трехлетнего, чуть не расклевали куры. Он о косу порезался, ну а куры, жадные до крови, как кошка до валерьянки, накинулись и давай долбить клювами окровавленную ногу. А он, морщась от боли, молча отпихивал их слабыми своими руками…