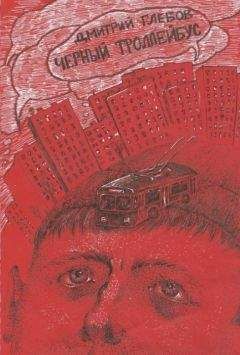— Кто вам нужен?
— Меня преследует полиция.
— У меня маленький ребенок.
— Простите.
Внизу хлопнула дверь.
— Входите, — приказала шепотом женщина. — Но если они будут звонить и угрожать, я открою.
Они стояли в коридоре и слушали. Шаги в подъезде стали громче. Люди поднимались по лестнице, и в гулком подъезде до двух стоявших в коридоре человек доносились голоса.
— Он выбежал, сеньоры, — сказал мальчишка лет двенадцати. — И побежал в парк.
— Уходят, — прошептала женщина.
У нее было бледное, спокойное лицо, тяжелые светлые волосы ложились на голые плечи. Питу показалось, что он где-то ее видел, но не мог припомнить где. Она говорила по-испански с приятным акцентом, делавшим ее речь совершенно понятной.
— Вы иностранка?
Она кивнула.
— Англичанка?
— Нет.
— Я посижу немного и уйду.
Дверь в комнату приоткрылась: кудрявая толстощекая девочка с блестящими глазами сидела на кровати. Она увидела Пита и заплакала, женщина взяла ее на руки и стала расхаживать по комнате, говоря что-то ласковое.
— Мне пора идти.
Женщина покачала головой.
— Сейчас комендантский час. Будет лучше, если вы останетесь до утра.
Двое ужинали, не включая свет. Пили вино, после напряжения на него напала сонливость, скорее всего, в эту ночь ему удастся поспать. А квартира была совсем маленькой. Собственно, это была не квартира, а студия с кухонкой. Она была удобна, и все было здесь подчинено жизни маленькой девочки — столик, кроватка, игрушки. Такие квартиры обычно снимали студенты, он сам жил в такой в Париже, и там тоже были стычки с полицией, но, Господи, там никого не убивали, не сажали в тюрьмы, не пытали. Там было весело, а тут все обернулось чудовищным фарсом.
— Идите ложитесь. Кровать широкая, мы не помешаем друг другу.
— А вы?
— Я не хочу спать.
Ночью он проснулся оттого, что девочка кашляла и плакала. Женщина взяла ее на руки. Она ходила по комнате, пытаясь успокоить, и что-то тихо ей шептала, он видел все сквозь сон.
— Давайте я ее посмотрю.
Он долго слушал, приложив ухо к груди и спине.
— Хрипов нету. Но придется давать антибиотики. Будет лучше, если вы вызовите врача.
— Я не могу этого сделать.
— Почему?
— Я здесь вне закона.
— Вы из революционных левых? — спросил он упавшим голосом.
— Нет. Но они велели иностранцам заявить о себе.
— Ну так заявите.
— Я же сказала вам, что не могу этого сделать. — в голосе не было раздражения, а странная методичность, точно она разговаривала с ребенком.
— Но почему?
— Потому что не могу.
— Откуда вы?
— Из Советского Союза.
— Откуда? — глаза у Питера изумленно полезли вверх.
— Я преподаю… преподавала, — поправилась она, — русский язык в университете.
«Везет же мне на красивых преподавательниц», — подумал Питер, проваливаясь в забытье, но едва он донес голову до подушки, сон опять оставил его. Он слышал, как женщина на кухне варит кофе, моет посуду, слышал, как полилась в ванной вода, потом она вошла в халате и, не глядя на него, откинула одеяло, прилегла.
«Странное дело, — думал Пит, — завтра я отсюда уйду и никогда ее не увижу».
Женщина посмотрела на него очень серьезно.
— Спите, — сказала она тихо.
— Я не могу, — сказал он честно. — Со мной что-то случилось.
Она еле заметно усмехнулась, и он потянулся к ней. Это выглядело как снисхождение, и все последовавшее напомнило глубокий обморок, из которого он незаметно перетек в сон, не выпуская из объятий эту женщину, и не слышал, как она встала, не видел, как ходила на кухню курить — ничего этого Пит не знал, он спал словно дитя все утро и весь день и проснулся только тогда, когда настал вечер, и не понял, что с ним происходит и где он находится.
— Сколько времени? Я должен был уйти.
— Сегодня уже поздно.
— Я не хочу быть вам обузой.
— Вы и не будете. Какой язык вам удобнее?
— Любой, кроме испанского.
— Что ж, будем говорить по-французски.
— А если осада затянется, вы станете меня учить русскому.
Она странно посмотрела на него и усмехнулась, а он виновато поглядел в ответ и вдруг подумал, что ждет теперь одного: когда снова наступит вечер и все произойдет наяву. Он отвык от женщин, чья кожа не была горячей и смуглой, а волосы были светлыми, ему странно было отсутствие миндального запаха, другой язык и незнакомые слова, которые она произносила.
— Не думайте, что я чувствую себя неловко, — говорила женщина сердито. — Все равно бы это случилось, не сегодня так завтра. А при нынешних обстоятельствах никто не знает, сколько у нас времени. Можете оставаться здесь, сколько хотите. Хотя это тоже опасно.
— А вы не боитесь?
— Сначала боялась, сейчас не знаю. Я могла уехать, пока шла эвакуация, а теперь людей с советским паспортом тут не осталось. Разве что женщины, которые вышли замуж за чилийцев. Бедняжки, как им теперь придется? А мои студенты? Господи, что с ними будет? Я однажды ходила смотреть — у Красного Креста стоит длинная очередь. Но с моим паспортом полиция не пустит.
— Хотите, я помогу вам?
— Нет.
Он посмотрел на нее недоуменно.
— Я не хочу возвращаться в Советский Союз, — пояснила она, подняв на Питера темные глаза. — Я не люблю свою страну, но парадокс заключается в том, что меня могут убить за то, что я советская гражданка. Это, разумеется, ерунда, но в нынешних условиях, когда быть советской опасно, мой отказ от гражданства будет выглядеть как малодушие и трусость.
— И что же вы собираетесь делать?
— Ждать. Что мне остается?
Они долго спорили, кому из них безопаснее идти за едой, и всякий раз Елена убеждала его, что это сделает она. Пит не хотел соглашаться, но вынужден был признать правоту русской женщины. Им было нечем заняться, и они говорили — часами, сутками, мешая эти разговоры с любовью и открываясь друг другу так, как обыкновенно люди не открываются. В каждую минуту в квартиру могли прийти, схватить их и бросить в тюрьму. Ночами они ловили западное радио, днем смотрели телевизор, и им казалось, что это происходит не с ними, а просто они стали участниками какой-то игры. Он рассказывал ей про Соню, партизан, и она слушала его, недоверчиво качая головой, хмурилась, и он не понимал, почему выворачивает наизнанку душу перед этой женщиной, как если бы она была аббатом Гекемансом и он каялся перед нею в грехах. Он рассказывал, как легко учить иностранный язык в постели с любимой женщиной.
— Маэстра говорила, что язык народа — это тело его женщины и части речи подобны ее лицу, плечам, рукам, ее груди, животу…
— Дальше можешь не продолжать.
— В этом нет ничего стыдного, — возразил Питер. — Изучение языка есть выражение любви к женщине, говорящей на этом языке. Невозможно постичь одно, не зная другого. Человек, не умеющий говорить на иностранном языке, похож на грубого, неумелого или слабосильного любовника. И напротив, тот, кто владеет языком, подобен любовнику искусному и желанному для всякой женщины. Маэстра открывала мне себя по мере того, как я учился правильно согласовывать времена и строить фразы, ее тело отзывалось на мою речь и отдалялось от меня, если я ошибался.
Елена вдруг засмеялась, и он рассмеялся с нею, она дразнила его, говорила, что не скажет по-русски ни слова, а его окатывало холодом, когда он думал, что Соня в эту минуту… Он старался, чтобы она ничего не замечала, и забывал сам, они расходились, как дети, и замирали только тогда, когда их смех перебивал скрип тормозивших машин. Ночами город вымирал, а по телевизору показывали, как жил Альенде — картины, мебель, набитый продуктами холодильник, банки с растворимым кофе, коробки с макаронами в подвале.
— Это похоже на наш тридцать седьмой год. Мне мама рассказывала. Она так же не спала и боялась, что за ней придут.
— А мой отец пережил в сороковом, когда нас оккупировали нацисты.
— Ты знаешь, у меня такое странное чувство. Я не могу этого объяснить, но во мне что-то изменилось. Я хочу домой. У меня там муж. Мать. Они сходят с ума, где я. А я не могу даже послать им весточку. Эта какая-то глупость, Пит. Это грех, грех, — говорила она, и он не понимал, о каком грехе можно было говорить здесь. — Я не смогу теперь вернуться к мужу. Я изменила ему.
«Господи, к какому мужу, — он подходил к окну, — до мужа семнадцать тысяч километров, неизвестно, останутся ли они живы, а она думает о человеке, которому изменила, переживает, убивается. И все это совершенно всерьез».
— Работы нет, деньги скоро кончатся. У меня на руках ребенок. Чудовищное легкомыслие. И вот я завожу роман с иностранцем, которого совсем не знаю. И я счастлива. О Господи, — она схватилась за голову. — А все от этого идиотского воспитания. Когда женщина слишком правильно ведет себя в молодости, с ней происходит непоправимое. Я когда смотрю на этих латиночек, меня такая обида за свою молодость берет. Вот идет она по улице, красавица ли, уродина — неважно. Она знает, что неотразима, создана для любви, и все ей радуются. А мне стыдно было, когда я превращалась в девушку. Когда у меня случились первый раз месячные, мне казалось, мать прибьет меня за испачканное белье. О Господи, что я говорю такое? Прости.