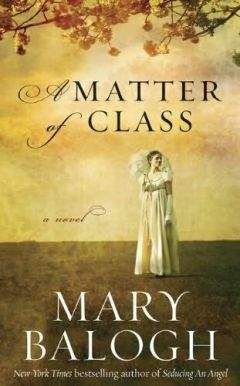Ознакомительная версия.
– Что, в сущности, я за человек? – задавал он себе вопрос, стоя перед зеркалом. – Впалая грудь, безвольные плечи, живот торчит, нажранный ночными излишествами. Ноги как у лягушонка. Нет, не могу я быть совершенным физически. Не могу воплощать постулат о здоровом теле, в котором томится здоровый дух, словно его там запечатали, как в бутылку под сургуч. Впрочем, есть же этот, как там его? Папа Римский. Кривой, словно саксаул-кустарник, простреленный в семи местах, но ведь горит в нем душа! Огромная, выплескивающаяся через край душа! И до того ее много, что хватает на всех, кто захочет подставить плошку под эти брызги. А у меня если и есть что-то похожее, то лишь душонка. Душоночка. Душенюшечка. Ссохшаяся, кривенькая, похожая на засохший собачий экскремент. Вот бы оросить ее, чтобы пошла набухать, наливаться доброкачественной грозовой тучей и пролилась бы на людские головы долгожданным, как после засухи, желанным дождем. Ведь никто меня не знает, кроме кучки каких-то подонков и завистников. Нет рядом верной и любимой. Ею надо было обзаводиться раньше, когда еще жил в реальном мире, где не все продается. Теперь поздно – кругом одни бляди, как женска, такоже и мужеска полу, а от блядей искренности не получишь. А надобно, чтобы меня узнали! Чтобы все узнали, насколько я стал другим, как изменился. А лучше… – тут у него даже на мгновение сперло дыхание и он сглотнул, чтобы продолжить, – лучше пусть и не ведают меня прежнего. Пусть думают, что я будто Христос, шествую впереди всех в белых одеждах, и все так благостно, елейно так…
От подобных самораспалительных речей Илья приходил в неописуемое волнение, маршировал, отрабатывая величавую поступь спасителя, и почти окончательно сошел бы с ума, если бы не грянувшая внезапно проверка.
Как всегда, такие вещи, прямо говоря, вещи неприятные, происходят совершенно внезапно. К ним почти невозможно приготовиться, и даже если в душе их ожидаешь, то наяву никак не можешь с ними смириться. То есть как это? Как же это?! Ведь все было прекрасно и шло своим, заведенным порядком! Все уважали, тянули ручонки, уничижались и пытались доверительно понижать голос! А теперь что?! Ах ты, до чего же все стало плохо…
Проверка взнуздала Организацию. Места за столами клерков заняли Принципиальные, со стремительными манерами, волевыми рублеными мордами и в штатском. Илья тенью проходил в свой кабинет и с немного испуганным выражением лица отвечал на вопросы Принципиальных. Два дня отвечал, на третий день ему стало грустно, и он исчез.
Когда-то, на заре торжества офисной автоматизации, была изобретена пневмопочта. Вот как она работала: в цилиндр закладывали какой-нибудь циркуляр, заворачивали цилиндру головку, опускали его в трубу, и он пулялся воздухом до другого конца трубы. Там его опять разворачивали, читали, ну и так далее. Вот и Илья так же «пульнулся»… через Ла-Манш. На сей раз не на корабле, а по воздуху.
Его тут же вздумали искать и нашли, но сцапать не смогли. Тогда в прокуратуре стали сочинять бумаги и бомбардировать ими английское правосудие, но правосудие прикрылось фиговым листочком и на бумаги не отвечало. Друг Ильи, тот, что куролесил в «Альянсе», сбежать отчего-то не успел и был водворен в камеру. Но в камере ему стало дурно, открылась язва, и его перевели вначале в тюремный госпиталь, а потом, когда в дело вмешались правозащитники, то и в обыкновенную гражданскую лечебницу, откуда «альянс» исчез и никто его больше не увидел. Постарался тот самый «большой» товарищ-сотоварищ, ему свидетели были без нужды. Хоть и высоко сиделось, да насестом, видать, гузку ожгло, тут уж не до жиру, концы надо прятать в воду. Там «альянса» и спрятали, с ногами в бетоне и с руками, перекрученными сзади скотчем, почему-то красного цвета.
Другой закадычный приятель Ильи, тот самый, что заказывал постройку кораблей и работал в Лондоне, имел собачку. Милого малютку фокстерьера, которого и выгуливал по утрам в одном из парков, в Лондоне их множество. Однажды утром фоксик-умничка прибежал домой в одиночестве. И в конце концов сам «большой» товарищ умер в Сандуновских банях, нырнув распаренным в холодный бассейн. Выглядело все естественно, сделано было в высшей степени профессионально. Илья все еще был настоящим начальником порта, и только он один мог решать, куда поплывут его корабли.
Спокойно, конечно, ему не жилось. Было постоянное какое-то такое предчувствие. Нехорошее. Илья нервничал, пил пилюли, посещал сеансы иглоукалывания у лучшего доктора-вьетнамца Ньиет-Минга. Вьетнамец жил на широкую ногу, принимал в собственном особняке, ставил диагноз по пульсу и имел самые чувствительные в мире подушечки пальцев рук. В тех местах его кожа казалась прозрачной, вьетнамец постоянно тер пальцами шелковую тряпочку, чтобы не утерять чувствительности. Даже кнопок в лифте сам не нажимал, опасался, что дар улетучится.
Ньиет-Минг ничего криминального в здоровье Ильи не нашел, но на всякий случай назначил лечение, и три раза в неделю тот кряхтел, когда ассистент Минга вставлял ему в нужные точки тонкие длинные иглы. При этом Минг стоял рядом и, держа в руке невесомую стеклянную палочку, указывал ассистенту, куда колоть.
Идея первой истории пришла к Илье именно «под иголками». Видимо, с их помощью в нем что-то открылось, какая-нибудь чакра, энергия кундалини перетекла из срамного места в мозг и преобразовалась там в творческую, обладающую силой ста цунами, энергию. А потом Илья встретил Феликса…
Феликс знал о нем все, сразу навел справки. Вика отметилась в постели Ильи раза четыре, но быстро ему надоела.
– Прости, куколка, но сделай милость, вали отсюда.
– Не понравилось? – с усмешкой спросила ненавидящая в тот миг весь мир Вика и с показным пренебрежением оглядела невыразительные чресла Ильи.
– В таких, как ты, нравиться нечему, а вокруг меня, увы, лишь такие, как ты.
– Вокруг меня тоже, – очень хотела сказать Вика, но сдержалась и, молча кивнув, покинула дом начальника порта, а Феликс получил два-три новых абзаца в обширное досье, которое он с любовью собирал на своего собеседника.
Небывалое ощущение – лежать на дне лодки и смотреть вверх на море, усыпанное звездами. Наверное, это до боли похоже на клише какого-нибудь романтичного придурка-рифмоплета, но как тут скажешь иначе? До берега оставалось мили две, я уже давно разглядел маяк порта Кадиса и копил силы перед последним рывком: эти две мили до берега предстояло пройти на веслах, дабы не привлекать внимания шумом мотора.
Мне повезло, дуракам всегда счастье. Я проскочил в стороне от рабочего фарватера, похожего на морское шоссе между Альхесирасом и Танжером. Суда всякого водоизмещения ходят в обе стороны между континентами, но все же резиновая лодка с мотором, как ни крути, за судно бы не сошла. Повезло: для радара такая мелочь не видна, она на его экране лишь песчинка, а испанцы после шести вечера беспечны. Многие пропустили по стаканчику прямо на дежурстве, и всякая ерунда их не интересует.
Я рассчитывал причалить неподалеку от Кадиса на рассвете. У ночи оставалось еще два ее законных часа, дремать не тянуло, а лезли в голову мысли, все больше воспоминания.
Вспомнил своего тестя. Хороший был мужик, любил я его больше родного отца. Умный, честный, безобидный. Оля называла его тряпкой. У нас даже скандалы случались из-за этого. Я все никак не мог понять, за что она его так, собственного отца. Потом понял: разные люди отец и дочь. Тот сам по себе; она взяла многое от матери, которая почему-то позволяла себе перебивать собственного мужа, что называется, «на людях». Стоило нам с ним разговориться, как на лице тещи появлялось напряженное выражение, а через секунды звучало привычное: «Послушай, это никому не интересно». Почему она так считала? Видимо, сказывался интеллектуальный дис– баланс: он эрудит с энциклопедическими знаниями, она убежденная хозяйка очага. У него сомнения, у нее практицизм и монолитная жизненная позиция. Тесть был добряком, водки пил мало, выйдя на пенсию, гулял по разнообразным выставкам, от строительных до вернисажей, и был страшно одинок. Все переживал, что нет возможности нянчить внуков ввиду отсутствия последних.
Он заболел внезапно, для всех это стало пригоршней колотого льда за шиворот. Оля и теща по привычке набросились на него, мол «и тут ты в своем амплуа идиота». Тесть бунтовать не пытался, лишь иногда исподтишка посматривал на меня и улыбался. Он сдал анализ в декабре и забыл про него. А летом, в июле, когда на Москву опустилось привычное для этого времени года удушье, мой тесть не смог утром встать с постели. Я тогда был в командировке, в местах неприятных и мерзостных, где можно нарваться на придорожную хлопушку, заложенную непримиримыми борцами за исламскую революцию, и никто мне ничего не сообщил. А когда спустя месяц я вернулся, то вместо прежнего человека увидел его половину. Тесть высох и отчего-то выглядел загорелым. Он медленно ходил по комнате, избегал смотреть в окно, мне искренне обрадовался. Я почувствовал, как пережало горло. Произнести «как дела» с первой попытки не получилось. Он понял мое состояние, слабо махнул рукой:
Ознакомительная версия.