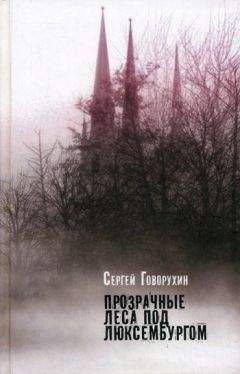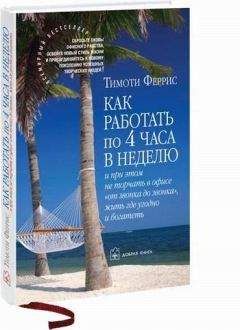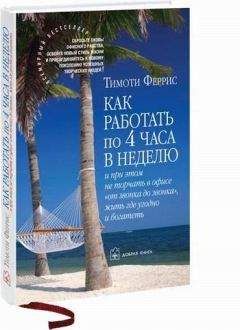Зеф уважительно покосился на мой китель с наградами.
– Воеваль? – спросил он.
– Немного, – отвернувшись к окну, сказал я.
Мне почему-то стало неловко. Сегодня был День Победы. При чем здесь я? При чем здесь мы?
Да и не воевал я. Мотался по роду службы в командировки, тянул солдатскую лямку. Опять же потому, что работа была такая. Несколько раз стрелял наугад. Чаще стреляли в меня.
Валялся в госпиталях с ранением, с контузией, с последствиями того и другого. Мог погибнуть. Но не погиб же…
Просто день был сегодня такой. Святой. Один на всех. Единственный.
Плакать все время хотелось. И плакалось. И не стыдно было слез.
И старики эти – как дети. Великие, отчаянные и наивные одновременно. Поднимающие стопку за стопкой… Им по-прежнему кажется, что после такой войны их никогда и ничто не сломит. А пустота за их спинами с каждым годом становится неотвратимее.
Я кожей ощущаю эту пустоту. Звенящую, оглушительную… Пустота переполнена звуками. И звуки эти: одиночество, забвение, жестокость…
Дома расстелили на полу скатерть, завели патефон. А праздник таял на глазах. Пили, пели военные песни, с надрывом кричали «ура», поддерживая залпы салюта, который так и не увидели из-за высоких крон деревьев.
А праздник избывал себя. Заговорили о предстоящих отпусках, море, юге, о чем-то суетном, житейском…
Мы с Геркой молчали. Сидели рядом, подливая водку в стаканы, и молчали. Все было ясно без слов.
Потом он встал и вышел в коридор.
– Герка… – остановил его я.
– А… – Он махнул рукой и вышел, не простившись.
В его глазах стояли слезы.
Я знал: теперь мы увидимся через год. В лучшем случае мимоходом пересечемся где-нибудь. «Как дела?» – «Нормально. А у тебя?»
Мне нужно было догнать его…
Он хотел остаться один. Я тоже. Вдвоем мы не мешали друг другу.
Я вернулся в комнату, остановился в дверном проеме и… в который раз ощутил свою чужеродность.
– Какой-то он странный, – убирая грязную посуду, осторожно заметила она.
Все разошлись. В углу на кроватке, трогательно укрывшись моим кителем, спал сын. Праздник кончился. Мы остались втроем.
– Кто?
– Гера… Весь вечер молчал, ушел не попрощавшись…
Я на мгновение задумался. Почему на мгновение? Потому что это мгновение и есть жизнь. Во всяком случае, там, откуда мы вернулись. Вернулись ли?
Мгновение, разделяющее нас на живых и мертвых. Цвирк пули, осколок фугаса, стальная нить растяжки – как граница между двумя измерениями…
Что всколыхнулось во мне? Обида за старого товарища, вызванная ее легкомысленной фразой? А в чем обида? В том, что он странный? Но это так. Он странный, я странный, и еще тысячи нас…
Это мы, Господи!
– Знаешь… – сказал я и вдруг понял, что еще никогда и ни с кем не говорил о том, что много лет жило и болело во мне. Когда перехватывает дыхание и не хватает слов, а может, их еще не придумали, эти слова. – Конечно, мы производим впечатление нормальных людей… Встретились – поговорили. Чего там… Но война… Ее же нельзя пережить и отрезать. Она сидит вот здесь. И здесь. И эта необъяснимая дрожь в руках. Вдруг, ни с того, ни с сего… Сколько их было – этих засад, подрывов… Сколько раз по нам били и свои и чужие. И какая, к черту, разница, чья пуля раскроит тебе башку…
Из меня словно выпустили воздух. Я сел к столу, достал из пачки сигарету.
Мне казалось, что это все. Но это было не все. Я должен был договорить. И для себя. И для нее.
Мы пропустили войну через себя. Я там, она здесь. Когда ждала, когда три месяца выволакивала из-под меня судно в заштатном ростовском госпитале, прижимала к себе мою контуженную голову по ночам и, склоняясь, шептала что-то терпеливо и нежно, как мать.
А потом, как-то сама по себе, война стала привычной частью нашей жизни, как рано или поздно привычным становится все. Я уезжал и возвращался, мы накрывали праздничный стол, уставляли его закусками, настраивали популярную радиоволну…
И почти перестали брать аккорды на той струне, от прикосновения к которой когда-то обжигало пальцы…
– Скольких мы потеряли за эти годы. И не обязательно друзей. А просто был человек, ел с тобой кашу из одного котелка. И вот его нет, а ты живой… Я всех их помню. И тех, кого знал, и тех, кого не знал, – почему-то еще больше… Может, потому, что мог узнать и не узнал, и теперь уже не узнаю…
Я пытался говорить проще, обыденнее. Не получалось.
Я не раз, так или иначе, касался темы войны. Но раньше это было вскользь, обрывочно, за дружеским столом. Да и кому нам было рассказывать? Друг другу?
Но именно сегодня, сейчас я ощутил, какой глубокой, болезненной раной живет во мне война. Это был мой мир, и Геркин, и еще тысяч нас. Мир обугленных нервных окончаний, который не дано постичь непосвященным.
Я вспомнил Грозный девяносто пятого года, консервный завод и хлюпающее под ногами, раскатанное траками месиво грязи, вязко просачивающейся за голенища ботинок. И как, выматывая душу коротким погибельным свистом, поднимали фонтаны перемешанной с осколками грязи одиночные мины. И как надо было бросаться на землю, закрывая голову руками. И никто не бросался. Стояли, исступленно всматриваясь в темнеющее небо, словно рассчитывая увидеть предназначенную именно тебе мину…
Так я впервые узнал, что чувство брезгливости выше чувства страха.
Но, узнав и пережив это лично, я понимал, что вряд ли смогу объяснить это другим.
Как можно поверить в то, что перед лицом смерти человек думает не о спасении, а о том, как падать в эту грязь в прожженном, рваном, но местами еще чистом бушлате, о сухости ватных брюк, о том, как лежать, уткнувшись лицом в это месиво снега, земли, автоматных гильз, отодранных с кровью бинтов…
А то, что мылись перемешанным с пороховой гарью снегом, гнили от фурункулеза, пили этот же растопленный в котелке снег, – об этом кому? И зачем?
– Я ведь все понимаю… Но вы всегда смеялись, говорили об этом так буднично… – растерянно, словно оправдываясь, произнесла она.
Буднично. Конечно, буднично. Буднично убили, буднично составили похоронку… Там к этому привыкаешь быстро. А потом? В мгновения внезапного осмысления? Когда понимаешь, что остался жив вопреки всему. А как и какие боги отвели от тебя смерть – не дано понять никому.
Через два месяца я уезжал в командировку. И никакая сила на свете не могла отменить ее. Как не могла отменить войны в трех часах лета от Москвы.
Я вспомнил прошлую командировку, инженерный дозор на Пригородное, засаду, одиночный трассер над БТРом: над тем самым местом, где еще несколько секунд назад сидел я…
Они подорвали и зажали нас между двух «зеленок». Мимо с обманчивым спокойствием проследовали несколько легковушек, автобус с рабочими, груженный сеном «зилок». До конечной точки маршрута оставалось пройти четыреста метров. И вдруг подрыв, и падающий с пробитой гортанью мальчишка-сапер, и кровь на асфальте…
Они обстреливали нас справа, из укрытых сплошным зеленым массивом брошенных дач. Они знали, что мы не сможем подойти к ним сквозь непроходимые минные поля, и потому стреляли не прицельно, с ленцой, больше забавляясь паникой и замешательством в наших рядах.
Башнер развернул КПВТ и бил наугад по кустам, деревьям, еле различимым в зарослях домам. Его поддержали автоматами.
– Уходим! – крикнул командир группы.
Погрузив, почти забросив в кузов «Урала» раненного сапера, прикрывая друг друга, заскакивали в люки БТРов бойцы. Матерясь и разбивая в кровь руки, разворачивали жала пулеметов башнеры.
Мы с Еремой прикрывали отход с противоположной части «зеленки». Заметив дрогнувшую ветку, я резко повернулся и выпустил несколько коротких очередей. Перевел ствол автомата левее и вновь нажал на спусковой крючок: автомат молчал.
«Неужели расстрелял магазин?!»
– Патрон перекосило, Серега! – крикнул Ерема.
Вскинув автомат, я увидел затворную раму с перекосившимся патроном и подумал: «Как это могло случиться?» И еще я подумал: «Конец!»
– Прыгай в люк! – дико заорал Ерема, стреляя на ходу. Я вскочил в люк уже двигающегося БТРа и увидел, как странно, боком заваливается на асфальт Ерема…
Четыре месяца спустя я был с сыном на новогодней елке. Сын хохотал, бегал вокруг елки, дергал меня за рукав:
– Ты видел, пап, видел?
Он был счастлив.
Я смотрел на его бесконечно любимую и дорогую мордаху, в широко распахнутые шальные глаза и думал о Ереме. У Еремы тоже был сын…
Ночью мне снилась первая любовь. Мы сидели в спальне ее огромной квартиры на фоне разобранной смятой постели и пили кофе. Она что-то оживленно рассказывала, водила пальцем по столу, и с каждым ее жестом нарастала во мне необъяснимая тревога.
В этот момент в квартиру ворвался ее муж. Он кричал, ожесточенно размахивал руками, хватал меня за отвороты рубашки, и тогда я сказал ему:
– Почему вы так волнуетесь? Ведь Алла давно умерла…Я проснулся подавленный: по преданию, покойники снятся к смерти.