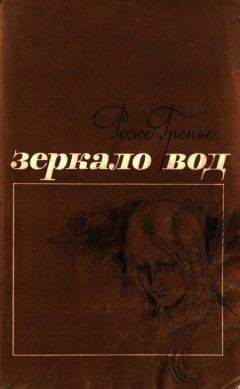Пьера всегда раздражала манера некоторых людей не называть себя, поскольку по телефону он узнавал их так же плохо, как и на улице. «Впрочем, откуда это самомнение? Кто я, собственно, такой и почему мне все должны немедленно представляться?» Голос в трубке сказал:
— Не узнаешь меня?
— Нет.
— А ты постарайся!
— Честное слово, не знаю.
— Так ты меня совсем забыл… Мишель! Мими!
— Разве ты не в Эфиопии? — растерянно спросил он. — Ты здесь проездом?
— Нет. Я вернулась навсегда.
— Очень мило, что ты вспомнила обо мне.
— Мне срочно нужно тебя видеть. Необходимо посоветоваться. Я все начинаю сначала. А ты по-прежнему пишешь детские книжки?
— Перешел на научную фантастику.
— Замечательно! Обожаю всяких инопланетян!
— Хочешь, поужинаем как-нибудь вместе, — предложил Пьер.
— Не очень-то ты спешишь увидеть меня. Я хочу встретиться с тобой сегодня же.
— Видишь ли, у меня срочная работа. Завтра утром — крайний срок.
И все же Пьер сдался. Договорились, что Мишель придет к нему после обеда.
Первое, что бросилось ему в глаза, когда он открыл дверь, были длинные волосы Мишель, собранные в тяжелый узел. На ней была зимняя шубка. Мех кое-где вылез, один из карманов начинал отрываться. Мими пристально посмотрела на Пьера и вся как-то напряглась. На лице ее обозначились морщинки, казалось, что попытка изобразить радость при виде Пьера дается ей с трудом. Однако в неподвижно застывших глазах по-прежнему горел огонек. Пьер помог ей раздеться и принес фужеры.
— А твой муж? — спросил он.
— Бездарность. К тому же сам знаешь, какая сейчас обстановка в этих странах. У него были бесконечные неприятности с местными властями. Как только кто-нибудь из его больных умирал, ему тут же грозили тюрьмой. Я быстро все это поняла, но не так-то просто было уехать, а уж развестись и подавно. Вечера не хватит, чтобы рассказать тебе обо всем.
Она подошла к письменному столу Пьера и склонилась над машинкой. Пьер рывком выдернул наполовину отпечатанный лист.
— Это так глупо! Мне просто стыдно показывать!
— А тебе не кажется, что мы могли бы работать вместе? Я еще не разучилась рисовать. Хочешь, попробуем комиксы. Изобразим искателей приключений, которых я навидалась в Эфиопии, экзотических животных — львов, например… Это было бы здорово.
— Надо подумать.
— Знаешь, у меня в Париже больше никого нет. Я могу рассчитывать только на тебя.
Пьер налил вина. Они устроились в креслах. После долгого молчания Мишель тихо сказала:
— Пьер, дорогой… — Она смотрела на него блестящими глазами. — Ты помнишь, когда я появилась в агентстве? В то время я была влюблена в тебя.
— Не может быть!
— Разве я тебе никогда не говорила об этом?
— Нет, никогда.
— Да, я была влюблена в тебя.
Пьер вообще был склонен верить всему, что ему говорят, но на этот раз засомневался. Он любил вспоминать историю Мими со дня ее приезда в Париж и, случайно став свидетелем ее тайны, восхищался искусством, с каким она умудрялась совмещать в своей жизни троих мужчин, но быть участником этой повести ему не хотелось.
Мими соскользнула с кресла и прижалась к его ногам. Он нежно гладил ее по волосам, вспоминая пивную на площади, встречу на лестнице с этим сатиром Гувьоном и, конечно же, смех Мими. Все последующие двадцать лет она пыталась пробиться, как могла. Конечно, ей было нелегко, но она держалась мужественно. А теперь… Что с нею стало?.. Обыкновенная, немного увядшая блондинка.
Мими положила голову на колени Пьера. Узкая юбка задралась, обнажив ноги. Все это не без умысла. Пьер поднялся с кресла и помог ей встать.
— Мне нужно работать, — сказал он. — К утру необходимо закончить рассказ.
Гостья подняла на него глаза — те самые огромные серые глаза беззащитной жертвы, которые так поразили его двадцать лет назад.
— Ты не хочешь, чтобы я осталась?
Пьер не ответил. Молча помог ей одеться и проводил до двери.
— Я обязательно помогу тебе, — сказал он.
Когда же дверь захлопнулась и раздались шаги на лестнице, он добавил почти шепотом:
— Я уверен: ты приносишь несчастье.
Перевод Р. Волкова.Я близорук и нередко бываю рассеян. Поэтому Сюзанна первая подошла ко мне, когда я спускался по улице Пети-Карро. Она неожиданно появилась из-за тележки зеленщика. В руках у нее была авоська, сквозь дырочки которой выглядывала цветная капуста, небрежно завернутая в газету.
— Я слышала, — сказала она мне, — что вы едете на Олимпийские игры.
— Да, редакция меня посылает.
— И Жан-Клод тоже едет туда. От журнала.
— Вот здорово, мы снова повидаемся.
— Вы приглядите там за ним? Обещайте…
Я чуть было не задал вопрос, почему она не едет вместе с ним, но вовремя вспомнил, что они расстались. Много лет назад я спросил у Сюзанны:
— Почему он так много пьет?
Она повернулась ко мне лицом — это было личико смазливой блондинки, поблекшее от невзгод (невзгоды, как известно, никого не красят, а блондинок в особенности), — и чистосердечно призналась:
— Раньше я думала, он пьет потому, что мы не можем пожениться. Однако теперь, когда мы женаты, он стал пить еще больше.
Жан-Клод Каде и я, как и многие журналисты, начинали карьеру в одном еженедельнике, но сотрудничество в нем вряд ли могло быть предметом гордости. Впоследствии многие поспешили забыть эту деталь своей биографии. Трудно себе это представить, но, оказывается, через этот журнал прошли чуть ли не все. Я мог бы упомянуть множество имен. Большинству из тех, что ныне стали известными писателями, кинематографистами, телепродюсерами, актерами, политическими деятелями, приходилось сидеть за большим редакторским столом в вышеупомянутом еженедельнике; среди тех, кто прошел эту школу, я знал даже двух министров: один — бывший министр правительства Виши, который нашел себе тут прибежище, второй стал министром при Пятой республике.
Одни задерживались тут не более недели, другие работали по нескольку лет.
Жан-Клод Каде впоследствии стал очень хорошим, чтобы не сказать крупным писателем. Я же так и остался заштатным репортером.
Каждую неделю двоих-троих сотрудников выставляли за дверь и на их место брали новых. Любая статейка, даже крошечная заметка в несколько строк, попадала на редакционный стол. Мы передавали ее из рук в руки и по очереди переписывали и шлифовали до тех пор, пока не достигалось то идиотское совершенство, когда уже ни одно слово не могло задеть тупого и придирчивого главного редактора. После того как журнал, выходил в свет, единственный из двадцати редакторов, который не прикасался к этой статье, как правило, получал разнос: «Никогда не читал большей мерзости, чем отредактированная тобой статья на пятой странице…»
Этот редакционный конвейер находился в большой комнате, напоминавшей зверинец, где все перебесились. В любой час ночи сюда мог ввалиться репортер из Сен-Жермен-де-Пре в разодранной одежде, но с великолепным рассказом о какой-нибудь потасовке. Главный редактор, обладавший немыслимой фантазией, расшвыривал репортеров и фотографов во все концы города, и они мчались в ночной темноте, спеша выполнить задание, может быть, и не совсем идиотское, но абсолютно нереальное. На террасе соседнего бара нас обычно поджидала высокая девица, которая за пятьдесят франков демонстрировала свою грудь. Мы вполне довольствовались этим развлечением — доказательство того, насколько мы были тогда молоды и невинны. А еще я припоминаю одного затюканного редактора, который неделями таскал на себе рюкзак с четырьмя или пятью толковыми словарями «Ларусс» — разных лет издания — ему поручили выискивать всевозможные казусы, сравнивая статьи в выпусках разных лет. Я также отчетливо помню того парня, который был настоящим паразитом — правда, самым симпатичным из всех, каких я когда-либо встречал, — он умудрялся жить в редакции, не ударив палец о палец. Помню, как он появился в нашей редакционной комнате — у него было круглое, чуть удивленное лицо смеющегося Пьеро. Почему-то он вообразил, что редакция — это хорошая кормушка: всего несколько присутственных часов в неделю и приличные деньги. Когда же он увидел, что тут надо работать засучив рукава, выражение его круглого лица стало еще более удивленным, пожалуй, даже возмущенным. После первой же ночи он исчез и больше не появился.
Случались тут свары из-за должностей, а также любовные драмы. Подобно тому как сильный прилив захлестывает мол, события эти внезапно выходили за рамки газетных столбцов и поглощали всю редакцию. Чья-то супруга стреляла в редакционной комнате из револьвера. Один репортер едва не отправился на тот свет, так как жена пыталась отравить его. Патрон однажды получил пощечину от своей благоверной в присутствии всей редакции. Он принял эту пощечину, не вымолвив ни слова, что доставило большое удовольствие всем сотрудникам, трепетавшим перед ним. А однажды мы заперли в туалете своего коллегу — того самого, который таскал с собой «Ларусс», — пока наш душка фотограф развлекался с его женой в кладовке архива. Как это ни странно, в нашем журнале бурлили все страсти, кроме политических. Фашисты, укрывшиеся тут в ожидании лучших времен, и леваки, которых тогда еще не называли гошистами, сидели бок о бок за большим редакторским столом, и каждый твердил про себя: идеи идеями, а зарабатывать на хлеб надо.