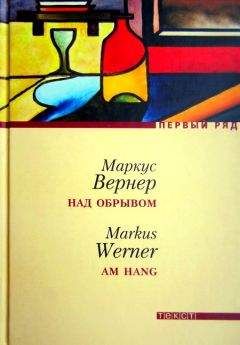— Это не деталь, — поправил меня Лоос, продолжая смотреть на огонь.
Я попросил его рассказать, о чем эта баллада. Он покачал головой. Если он хочет побыть один, сказал я, то я могу уйти. Я знаю, о чем ему хочется подумать. Он может и переночевать здесь, в кресле или на диване. А он тихо сказал: я твой должник. Он должен сейчас рассказать мне, что произошло год назад, по крайней мере, то, что сохранилось в его душе. Время до выписки его жены из больницы прошло впустую, словно оно стояло на месте. То, что оно все же движется, можно было заметить лишь по медленно наполнявшемуся мусорному ведру. Когда Беттина вернулась домой, его счастью не было предела. Но это счастье оказалось не безоблачным: его омрачала перспектива новой разлуки. Беттине было необходимо отдохнуть, чтобы восстановить свои силы. Слава Богу, лучевая терапия ей не понадобилась, а потому она сама могла выбрать место для долечивания. Она изучила проспекты различных санаторно-курортных заведений, в том числе «Кадемарио». Ей вспомнилось, как после посещения музея Гессе в Монтаньоле они стояли, прижавшись друг к другу, на балконе в «Бельвю» и смотрели на сверкающую гладь озера и цепь холмов с приютившимися среди них деревней и санаторием. И она решилась сразу, а у него еще оставались сомнения. Хотелось, чтобы она была где-нибудь поближе и он мог навещать ее так часто, как пожелает. Она сказала, что лучше всего было бы отправиться туда вдвоем. Он незамедлительно обратился к школьному начальству и попросил отпуск на неделю, который ему предоставили, разумеется, с условием, что он отработает пропущенные часы. Беттина обрадовалась — вообще, день ото дня, даже несмотря на еще случавшиеся иногда приступы слабости, она становилась все беспечнее. Слово беспечнее, хоть и старомодное, тут как раз уместно. Так что они заказали комнату на двоих, с балконом, окнами на юг, и во второй неделе июня поехали туда на машине, чтобы чувствовать себя свободнее. Нет необходимости описывать мне этот санаторий, так же, как и вид, который открывается из комнат, выходящих на юг, — я видел и то и другое. Они стояли у себя на балконе, опираясь на перила, и смотрели вдаль, а потом, преодолевая легкое головокружение, — вниз. Эти низкие перила, не доходящие даже до талии, опасны для тех, кто устал от жизни, сказала Беттина. Он возразил, что в таком санатории не обязаны заботиться о тех, кто устал от жизни. Она с ним согласилась и взяла его за руку. Они стояли на балконе и чувствовали себя, как молодожены. Первая ночь и впрямь была похожа на брачную, по крайней мере, частично. Тут, к его огорчению, ему придется сказать о болезни, которая мучает его по сей день. Он страдает бруксизмом.
Лоос глотнул коньяку, а я удивился:
— Впервые слышу. Это что, такая мужская болезнь?
Он покачал головой. Бруксизм — это когда скрежещут зубами по ночам, точнее, во сне. Так это называется у специалистов. Сам он этого почти не замечает. Временами скрежет прекращается, а временами бывает очень сильным. Порой он от этого просыпается, иногда по утрам у него болят челюсти, жевательные мышцы, а то и уши. И как раз в то время, в «Кадемарио», по коварной прихоти судьбы, скрежет у него был особенно сильным, таким громким, как никогда раньше. Один только скрежет, пожалуй, можно было бы стерпеть, это не такой уж резкий звук, но у него скрежет еще перемежался храпом. Перенести и то и другое окружающим очень тяжело. В ту первую ночь Беттина почти не сомкнула глаз и наутро встала измученная. Они обсудили эту проблему. Для него было ясно: его скрежет и храп не дают ей заснуть и выздоровление пойдет медленно. По этой причине он предложил, чтобы они спали в разных комнатах. Вначале Беттина воспротивилась, но в конце концов нехотя согласилась. Он попытался договориться насчет номера с двумя спальнями, но, к сожалению, все они были заняты. О том, чтобы снять еще один двухместный номер, не могло быть и речи — слишком дорого. Они говорили об этом, стоя на балконе, и тут его жена подняла руку и показала ему возвышенность Коллина дʼОро и сказала: «Сходи-ка в наш “Бельвю”». Идея ему понравилась, хотя получалось, что во время сна их будет разделять расстояние в четыре километра. Они не пожалели об этом решении, напротив: вечернее прощание и утреннее свидание, обретение друг друга вновь — в этом было нечто необыкновенное, и ощущение близости становилось еще острее. Впору было говорить о второй весне любви, при том что в ее супружеской жизни только-только наступало время урожая. С другими курортниками они не общались, им было достаточно друг друга, они часами бродили по каштановым и березовым рощам, разумеется, с перерывами на отдых. Однажды Беттина сказала, что побаивается возвращения в реальный мир. Он возразил: березовые рощи ведь тоже находятся в реальном мире. «Пусть так, — ответила она, — но в них не слышишь грохота войны». Она имела в виду бушевавшую тогда войну в Косове, которая вызывала у нее безмерный ужас. «Знаешь, — призналась она позднее, — злодеяния, которые там совершаются, я воспринимаю как удары по моей собственной голове, они оглушают меня и не дают видеть вещи в истинном свете». Он сказал, что такое происходит со многими и к этому надо относиться с уважением, хотя это и опасно, потому что наше состояние оглушенности придает силу злодеям. Тогда можно было бы сказать, заметила Беттина, что беспомощность — адекватный ответ на опустошительное безумие, и в то же время неадекватный. Так только кажется, ответил он, а она крепко его обняла и прижала к себе, словно желая показать: на земле еще возможны совсем простые вещи. Два раза он выводил Беттину в свет и пил с нею «бьянко ди мерло». Она полагала, что из ресторана отеля ее балкон виден лучше, чем из окна его комнаты, особенно если взять подзорную трубу, а она будет подавать знаки своим белым купальным халатом. Он понимал, что это дурачество, однако купил в Лугано маленькую подзорную трубу. Утром четвертого дня, ровно в девять, когда воздух был прозрачным, а санаторий весь залит солнцем, они провели испытания, которые оказались вполне успешными и приятно волнующими. Белый купальный халат Беттины был отчетливо виден, хоть и казался ненамного больше носового платка. Потом он поехал туда, как делал каждое утро, чтобы позавтракать вместе с Беттиной. Она была еще не одета, и он поразился, увидев, как волшебно она выглядит в белом купальном халате и оранжевом платке, повязанном в виде тюрбана. Она по-детски обрадовалась его словам, что он отлично разглядел ее знаки, и он никогда не забудет ее счастливых глаз. Ни одна долина в мире, подумал он тогда, не может быть настолько широка, чтобы разлучить его с Беттиной. Пока она одевалась, они условились, что на другой день продолжат игру в сигналы, опять в девять часов, после плавания. Каждое утро в половине девятого Беттина плавала в крытом бассейне, а потом они завтракали. Как проходил остальной день, он не помнит.
— Теперь вы видите, — сказал Лоос и, впервые отведя взгляд от огня, посмотрел мне в лицо, — теперь вы видите, что я был прав: на Троицу вьется пламя.
— Томас, — сказал я, — мы ведь перешли на «ты».
Он меня словно бы не слышал и опять смотрел на огонь. Шли минуты.
— Свежая малина, — сказал он вдруг, — свежая малина, вот о чем я вспомнил, в тот вечер ее подавали на десерт.
— Знаю, — сказал я, — твоя жена заказала ее на закуску, боясь, что она закончится, пока вы управитесь с главным блюдом.
— Черта с два он знает, — пробормотал Лоос.
Должно быть, он чисто машинально произнес вслух то, что было у него на уме, подумал я и все же несколько растерялся. Его грубость была столь же необъяснима, как и возврат к обращению на «вы». Опять потекли минуты. Он явно погрузился в себя. Я встал и принес ему стакан воды.
— Принес бы лучше наручники, — сказал он, прежде чем выпить воды.
— Для меня или для тебя? — спросил я.
— Конечно, для меня, — сказал он.
Я спросил, какое преступление он совершил. Он промолчал, но весь напрягся. Потом сказал:
— Прости, я был немножко не в себе, сейчас мне уже лучше, думаю, теперь я могу закончить. Не подкладывай больше дров, это будет недолго. После ужина мы допоздна сидели на балконе. О чем мы говорили, я уже не помню, знаю только, что моя жена, прощаясь со мной, плакала. Я сказал, что скоро приеду опять. Нет смысла ее утешать, сказала жена, ведь она плачет от счастья. Утром следующего дня — это была пятница, одиннадцатое июня, — я поднялся рано и встал у окна. Погода снова выдалась ясная, подзорная труба стояла на штативе, видимость была отличная. Боясь пропустить появление Беттины, я начал ее высматривать еще без десяти девять. Ровно в девять я стал нервничать: почему она не появилась с последним ударом часов? Она всегда была очень пунктуальна. Пять минут десятого, десять минут десятого: белый халат все не показывался. Разумеется, я убеждал себя в том, что она могла проспать, могла с кем-то заболтаться в бассейне, возможно, она забыла о нашем уговоре. Но это не помогало, я нервничал все больше. Я позвонил в ее комнату, она не взяла трубку. Я ждал до половины десятого, попытался позвонить ей еще раз, но безуспешно. Расстроенный и озабоченный, я сел в машину и поехал в санаторий. Ее комната была заперта, я какое-то время стучал — ответа не было. Тогда я заглянул в бассейн, для верности — еще и в фитнес-салон. Ее не было ни на террасе, ни в столовой, и я решил поискать в парке, у открытого бассейна, даже в оранжерее для кактусов. Безуспешно. Я поспешил обратно к дому, поднялся по лестнице, снова постучался в комнату Беттины. Потом спустился в холл, к администратору, и, едва переводя дух, спросил, где моя жена. Две дамы переглянулись, потом сказали: «Вот и вы наконец!» Одна из них тихо попросила меня пройти к ней в кабинет. Она сказала, что со мной не могли связаться, потому что никто не знал, где я живу. Ей тяжело мне это сообщать, но с моей женой произошел несчастный случай — в крытом бассейне, в половине девятого. Она поскользнулась на краю бассейна и неудачно упала, предположительно ударившись затылком — иначе она бы не потеряла сознания. Оснований для тревоги нет, ее тут же увезли в Лугано, в городскую больницу. Не желаю ли я сейчас туда позвонить? Я туда поеду, сказал я и, поскольку никто не мог меня проводить, попросил объяснить, где находится клиника. После долгих поисков я до нее добрался — было около двенадцати. Меня провели в отделение реанимации. Беттина дождалась меня, хоть и была без сознания. Только когда я сел рядом с ней и взял ее за руку, она закрыла глаза. По мере того как остывала ее рука, холодела и моя. Только это я могу вспомнить, и больше ничего. Нужно было что-то организовать, о чем-то распорядиться, что-то отрегулировать — все это я делал механически. Прошло две недели, прежде чем я стряхнул с себя оцепенение. И случилось это, когда я в первый раз открыл платяной шкаф Беттины. Вид ее платьев, юбок, блузок, жакетов, висевших на вешалках, этих мертвых, но все же полных ожидания вещей привел меня в чувство. Я на секунду ощутил, как во мне тает какой-то смерзшийся ком. А несколько позднее обнаружил в кладовке возле комнаты Беттины три новых, еще не бывших в употреблении синих чемодана, которых раньше никогда не видел. Я не мог объяснить себе, ни откуда они взялись, ни почему я так разволновался, увидев их.