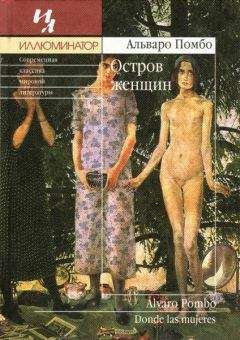— Ужасно, что он это придумал! Целый божий день бездельничать! Он совсем сопьется! — И добавила: — И что он хочет, чтобы я делала?
А мама ответила:
— Ничего он не хочет, правда, Том, ты ничего не хочешь?
— Совершенно ничего, я приехал всего на пару недель, так, небольшой отпуск.
— Да нет, ты останешься, уж я-то тебя знаю…
Мама прервала этот дурацкий разговор:
— Не обращай внимания, Том, это все ее анисовый ликер.
~~~
— У тети Лусии нет сердца! — заявила Виолета, когда мы легли спать.
— Почему это? — спросила я не без задней мысли, поскольку сама думала примерно так же.
— Потому что это так. Разве ты не видела сегодня вечером? Как можно говорить человеку, который любит тебя тысячу лет, что ты не знаешь, что с ним делать? Только если у тебя нет сердца.
Я предпочла бы закончить этот разговор, так как мне было противно, что меня тоже посещают подобные мысли, однако Виолета была настроена решительно.
— И Том ведь не какой-то там первый встречный. Тетя Лусия просто глупая. Я уж не помню почему, но мы с папой однажды заговорили о Томе, и папа сказал, что он богат, это уж точно, а еще у его семьи есть титул, и Билфингер — известная фамилия…
Я сделала вид, что уснула, а на следующий день, как только встала, сразу полезла в «Британскую энциклопедию». Там был только один Билфингер — Георг Бернгард Билфингер (1693–1750) из Каннштатта, нынешний Вюртемберг, ученик философа Вольфа, награжденный королем Пруссии Железным крестом. После смерти этого предка Тома Фридрих Великий сказал о нем: «Это был выдающийся человек, о котором я всегда буду вспоминать с восхищением». Я была поражена: неужели наш Том — потомок того самого Билфингера? Он оказался его правнуком.
Насколько мы могли заметить, Том решил окончательно рассеять беспокойство, которое, видимо, испытывала по отношению к нему тетя Лусия. Он поселился в башне и по утрам копался в саду, подстригал розы… Странно было видеть его там с лопатой или другими инструментами, в синем рабочем комбинезоне, время от времени раскуривающим трубку… Его румяное лицо, светлые волосы, на закате становившиеся рыжеватыми, благородная внешность, высокий рост, жилет в синюю и желтую полоску — все это превращало Тома в человека, который меня будоражил, человека серьезного, значительного, как любой работающий на земле, одновременно разумного и немного нелепого; его широкая согнутая спина наводила на мысль о сознательном самоуничижении… Том был с нами до Рождества и остался после него — без разрешения и почти против воли тети Лусии, которая при нас прекратила разговаривать с ним. Было ясно, что ее авторитет пошатнулся, хотя тогда только я так думала и стыдилась того, что перестала испытывать к ней прежнее уважение.
~~~
Разговор с Виолетой насчет Игельдо той ночью был отзвуком наших прошлых бесед и в то же время завершением прежних доверительных отношений и вообще детства. Впервые Виолета показалась мне не до конца искренней. Даже если она рассказала мне все и ничего другого не было, в том, как она рассказывала о них с Томасом, и в том, как она, возможно неосознанно, пыталась все это представить, ощущалось кокетство, лукавство, ветреность, вполне объяснимые для четырнадцатилетней девочки, за которой слегка ухаживает молодой мужчина. Однако в тот период жизни в Виолете не было ничего, что дисгармонировало бы с единым совершенным звучанием нашего семейного сообщества, его конечным смыслом, потому что какой же смысл в бесконечности? Мы все стремимся к чему-то законченному. В результате я отмела свои дурные мысли насчет неискренности Виолеты и, чтобы никогда больше к ним не возвращаться, убедила себя в ее чистоте, чуть ли не святости. Я свела все возможные проявления ее натуры к одному: всегда стараться стать лучше и не удовлетворяться ничем, кроме полного совершенства. Таким образом, превратив одну из возможностей в единственную, я отвергла все остальные, но отвергла также — к сожалению, на многие годы — собственную возможность понять Виолету и помочь ей. В духе маминого аскетизма, который, однако, не мешал ей быть разумной и гуманной, я решила, что порядок и отношения, существующие в нашей семье, идентичны — во всяком случае, для нас — порядку и отношениям, существующим в мире в целом. В эту схему прекрасно укладывался отказ от всего, что было связано с отцом: от наслаждения жизнью, путешествий, знакомств с новыми людьми — все это находилось вне установленного порядка, следовательно, являло собой беспорядок. Подобные мысли не были просто теорией, это было мое решение, проект, который я немедленно начала приводить в исполнение.
Следствием этого стало бегство Виолеты, заранее продуманное и прекрасно спланированное, которое она осуществила с не меньшей быстротой и решительностью, чем я — свой проект. Если бы мне было не шестнадцать лет, я бы поняла, что из-за этого события все очень сильно изменилось к худшему, о чем свидетельствует само слово «бегство».
Двадцать второго декабря Виолета не вернулась из школы. Спустившись вниз, я услышала, как мама говорит по телефону матери Марии Энграсиа: «Как же я могу не беспокоиться!» Это было первое, что я услышала, причем такой взволнованной я ее не видела никогда. После паузы, конца которой я не могла дождаться, мама сказала: «Как вы понимаете, я очень довольна, что моя дочь проведет каникулы с отцом и своей тетей Тересой в Педрахе или любом другом месте, однако я не очень довольна, что об этом мне сообщаете вы. Виолета — девочка увлекающаяся, но рассудительная, и мы с ней прекрасно ладим. Почему же она ничего нам не сказала, а уехала вот так, вдруг, в одной форме, будто мы не разрешаем ей видеться с отцом или ему запрещаем приезжать к нам? Думаю, вы знаете, что мы с мужем не оформили ни развод, ни даже раздельное проживание, поэтому такое поведение в данном случае мне совершенно непонятно. То, что девочка находится с отцом, это хорошо, но то, как она себя повела, — и это ваша вина, мать Мария Энграсиа! — это плохо, очень плохо. Я сама поговорю с Виолетой», — и бросила трубку. Я стояла на лестничной площадке, но спускаться не стала, а подождала, пока мама войдет в гостиную, и через несколько минут тоже пришла туда. Без всякого волнения, мягко и спокойно, как обычно, мама рассказала мне о случившемся и телефонном звонке.
Абстрактное и нейтральное слово «случившееся» плохо передает содержание весьма конкретного и весьма неприятного маминого рассказа. Думаю, ей стоило большого труда улыбаться и время от времени вставлять замечания по поводу будущего рождественского ужина и всяких других вещей, совершенно не важных, но делала она это для того, чтобы я, как и она, не придавала особого значения произошедшему. Возможно, она заметила мое смятение и даже отчаяние. Видимо, отец написал матери Марии Энграсиа письмо (Виолета наверняка рассказывала ему о ней) и испросил у нее как у духовной наставницы дочери согласия на беседу, чтобы подготовиться к тому, что мать Мария Энграсиа, обладавшая, как и все монашки, непреодолимой склонностью к эвфемизмам, называла «выполнением четвертой заповеди», которую «бедняжка» Виолета, по не зависящим от нее обстоятельствам, не могла выполнить. Отец внезапно появился в школе воскресным вечером в середине ноября, и никто его не видел, кроме привратницы, которая была из Авилы и отличалась любовью к небылицам. По маминым словам, мать Мария Энграсиа гордилась тем, что действовала и на благо Виолеты, и на благо обеих заинтересованных сторон. Мама сказала, что слова «благо» и им подобные жужжали в телефонной трубке, словно шмели, которые летают вокруг, но никогда ни на кого не садятся: благо отца, благо матери, благо семьи… Благодаря обилию этих «благ» и рассуждений о воле Божьей и левой руке Господа факт неуместного посредничества матери Марии Энграсиа остался в стороне; по мнению мамы, если чьи желания во всей этой истории действительно учитывались, так это отца и самой посредницы. И еще маме показалось очень странным, что Виолета даже нам с ней не рассказала о своем намерении провести Рождество с отцом. Тогда я высказала свое мнение, правда ни на чем не основанное. «А мне вот ничуть не странно, — заявила я. — Это они ее настроили против нас. Он — тот еще тип, да и другая не лучше. Задурили ей голову, будто мы ее тут взаперти держим… Просто они против нас…» Я думала, мама со мной согласится, но она повторила то, что уже говорила раньше: отец имеет на это право, и единственное, что ей не нравится, так это то, что он с нами ничего не обсудил, этого она понять не может, ведь если за такое серьезное дело браться необдуманно, у всех возникнут только лишние трудности — и у отца, и у матери Марии Энграсиа, и у самой Виолеты. Я хотела убедить ее в коварстве и подлости отца, в его желании уязвить нас обеих, но напрасно. В ту ночь гнев служил мне снотворным, а тоска, сменившая его на следующий день, когда я получила письмо от Виолеты, — болеутоляющим. «Прости, что я вот так уехала, но я не представляла, как еще это сделать. Я знаю, ты будешь злиться, а мама не знаю что скажет. Я хотела, чтобы папа понял, что по крайней мере на меня он всегда может рассчитывать, что бы ни случилось. Теперь, когда я узнала насчет папы, я не могу проводить Рождество как раньше. Это невозможно, и ты должна меня понять. К тому же мать Мария Энграсиа сказала, что лучше сначала сделать, а потом рассказать, и что она поговорит с мамой. А еще она сказала, что в праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, в праздник милосердия и любви к родным и близким, особенно если речь идет об отце и если мы с ним ладим, оставить его одного — это не по-божески. И она готова, если нужно, пойти поговорить с сеньором епископом, хотя я не понимаю, при чем здесь епископ… Пока ты будешь обо мне вспоминать, я уже вернусь. Мы сейчас в Сан-Себастьяне, живем в отеле с черепичной крышей, папа говорит, в английском стиле. Тут вообще все в одном стиле — столовая, гостиные, спальни, везде прямоугольники, ромбы и квадраты. Папа говорит, такой стиль был до войны. А еще я рада, что Рождество провожу не дома, из-за Томаса, ну, ты понимаешь. Папа говорит, чтобы я сказала маме, когда вернусь, что так будет каждые длинные каникулы. Мне бы тоже этого хотелось. Но сначала мы с тобой это обсудим, седьмого января, когда я приеду. От папы всем привет, а тебе поцелуй, чтобы ты на него не сердилась. Его это больше всего расстраивает, и меня тоже. Нежно тебя целую».