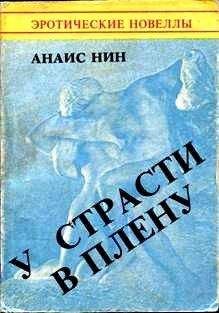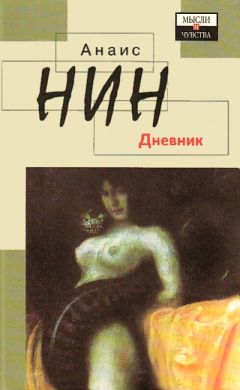— Смотри, какой потертый ковер.
А она видела только золотое сияние, солнце за занавеской. И слышала его слова:
— Лилиана, какие у тебя удивленные глаза. Ты ежедневно ждешь чуда.
Его коричневая рубашка висела за дверью, на двоих имелся всего один стакан, и высилась целая гора набросков и эскизов, которые она должна была перебрать, рассортировать и составить из них альбом. У него не хватало времени на то, чтобы остановиться. На улицах было так много интересного. Недавно он обнаружил алжирскую улицу, благоухающую шафраном и звучащую арабскими мелодиями, которые доносятся из мрачных средневековых порталов.
Лилиане казалось, что вместе они смогут пережить нечто новое. Они познакомились в Нью-Йорке, когда Лилиана рассталась с Ларри. Джей уехал в Париж, чтобы жить рядом с художниками, которыми он восхищался. Лилиана заключила контракт, согласно которому несколько месяцев в году могла проводить в Париже. Новое заключалось для нее в его полном приятии жизни — со всем ее уродством, нищетой и чувственностью. Всецелое приятие, без отбора, без пристрастий, без отстранения. Лилиана видела в нем нежного дикаря, страстного каннибала. Материнство готовит женщин к такого рода самоотречению. Лилиана соглашалась со всеми его увлечениями и порывами; сидела с ним за столиком кафе, разглядывая оранжевый циферблат и проститутку с деревянным протезом; играла в шахматы в Café de La Regence за тем самым столиком, за которым некогда играли Наполеон и Робеспьер; помогла ему собрать и записать пятьдесят слов со значением «пьяный».
Лилиана бросила классическую музыку и стала джазовой пианисткой. Классическая музыка не могла вместить в себя ее импровизации, темп, страсть.
Она следила за работой Джея, прочесывала парижские магазины в поисках самых лучших красок, узнавала секреты их изготовления у старых мастеров. Привела в порядок альбом его эскизов, отвезла в Нью-Йорк и продала там. Люди расспрашивали ее о Джее. Они восхищались его талантом, свободой, отсутствием одной темы, внезапными поворотами, позволявшими им заглянуть в интимный, частный документ, что-то вроде дневника.
Где бы Джей ни оказывался, обстановка его жилья всюду была одинаковой: жесткая железная кровать, твердая подушка, стакан. Но это жилье освещалось оргиями: интересно, как долго мы сможем заниматься любовью, сколько часов, дней, ночей подряд?
Когда Лилиана уехала в Нью-Йорк навестить детей, он написал ей: «Я невероятно жив, но исполнен болью и абсолютно уверен в том, что ты нужна мне. Я должен скорее увидеть, какая ты яркая и чудесная. Хочу еще ближе узнать тебя. Люблю тебя. Я полюбил тебя, когда ты пришла и села на край кровати. Весь тот день был как теплый туман. Будь ближе ко мне, обещаю, что все будет здорово. Я так люблю твою искренность, твою как бы застенчивость. Я никогда не сумею этого разрушить. На такой, как ты, мне следовало бы жениться».
Крохотная комнатка, убогая, словно альков в стене. Но ее сразу же наполнили богатство голоса Джея, ощущение погружения в мягкую плоть, пробуждение с каждым движением тела все новых точек наслаждения.
— Как хорошо, как хорошо, — бормотал Джей. — Но я, наверно, оказался не таким зверем, как ты ожидала? После моих диких картин ты хотела большего?
Эти вопросы обескуражили Лилиану. По какой мерке он себя мерит? По мерке сочиненного им мифа о том, чего хотят женщины?
На картинах Джея все выглядело крупнее, чем на самом деле. Не было ли это попыткой соответствовать собственной экстравагантности? Если у него в глазу увеличительное стекло, не видел ли он себя в жизни совсем мелкой фигурой?
В том же письме он писал: «Не знаю, чего ожидаю от тебя, Лилиана, но это что-то на пути к чуду. Хочу потребовать от тебя всего, даже невозможного, потому что ты сильная».
Но потом возникла боль, и ее причиной была скрытая слабость Лилианы. Ей необходимо было зеркало, в котором она видела бы себя такой, какой ее любит Джей. Или кумирня, где идолом была бы она. Уникальная, незаменимая Лилиана, как для Ларри. Но с Джеем это оказалось невозможно. Целый мир протекал сквозь его существо за день. Лилиане доводилось обнаружить, что на ее стуле сидит (или на ее кровати лежит) самая неприглядная из женщин — тощая, косматая, безымянная, заурядная, подцепленная Джеем в кафе. Ее присутствие он мог объяснить только полной противоположностью Лилиане. На ней было пальто, оставленное Лилианой в его комнате. Рядом сидела серая противная собачонка. А Джей, до сих пор ненавидевший животных, воспылал вдруг любовью к этой пыльной, линючей дворняге.
Доброта Джея была высшим выражением его анархизма. Она означала пренебрежение принятой всеми логикой доброты: доброты к тем, кого любишь, с кем живешь. Его доброта была издевательством над законами любви и преданности. Он не мог ничего дать Лилиане. Джей был щедр лишь к чужакам, к тем, кому он ничего не был должен. Он дарил краски тем, кто никогда не писал картин, покупал выпивку тому, кто уже был вдрызг пьян, отдавал свое время тому, кто его не ценил, а картину, которая нравилась Лилиане, вручал первому встречному.
Его дары были показным пренебрежением к общепринятой шкале оценок. Он хотел придать ценность тому, что другими презиралось или отрицалось. Его ближайшим другом был самый посредственный из художников, карикатурное отражение самого Джея, его приглушенное эхо. Подражая Джею, он мямлил слова и кивал. Он смеялся тогда, когда смеялся Джей. На пару они исповедовали дадаизм: все есть абсурд, все есть ирония. Иногда Джей начинал бурно восхвалять картины своего, как называла его Лилиана, Санчо Пансы.
Лилиана спрашивала:
— Почему ты им восхищаешься? Он что, действительно крупнее Гогена? Сильнее Пикассо?
Джей смеялся над ее серьезностью:
— Да нет же, просто я увлекаюсь собственными словами и, стоит мне начать говорить, не могу остановиться. Возможно, я имел в виду свою собственную живопись. Мне нравится мистифицировать, смущать, противоречить. Ты ведь знаешь, что в глубине души я во все это не верю.
— Но люди тебе верят!
— Им и без меня нравятся плохие художники!
— Ты лишь усиливаешь абсурд!
Лилиане казалось, что Санчо вообще не существует. Однажды ее познакомили с этим человеком с китайским лицом, но когда Лилиана попыталась к нему приглядеться, она обнаружила лишь неуловимую улыбку, которая была отражением улыбки Джея, симпатию, которая оказалась своеобразной формой вежливости, собственное мнение, которое при малейшем возражении испарялось. Лилиана увидела перед собой метрдотеля на банкете, принимающего пальто камердинера, тень на верхней ступеньке лестницы. Его глаза ничего не выражали. Касаясь Санчо, она чувствовала под пальцами подвижное, неуловимое, анонимное тело. Он никогда не отрицал того, что утверждал Джей. Он подражал приключениям Джея, но Лилиана догадалась, что он не в состоянии ни овладеть жизнью, ни утратить ее, ни жадно проглотить, ни выплюнуть. Он был шерстяной стелькой комнатных шлепанцев, второй оконной рамой, войлочным подбоем молоточков пианино, амортизатором автомобильной рессоры. Он был человеком-невидимкой, и Лилиана никак не могла понять связывающих их уз. Она страдала, глядя на уменьшенную копию Джея, на его ссохшегося двойника.
— Тебе обязательно нужно было сближаться с этой уродиной сразу после меня? — спросила однажды Лилиана.
— Не бери в голову! — сказал Джей. — Райхел считает меня бессердечным, аморальным, неблагодарным типом. Он думает, что раз у меня есть ты, я должен быть счастливейшим человеком на земле. Его назидания раззадорили меня, и я вошел в роль, чтобы шокировать его. Я говорил с ним о шлюхах и заставил возмущаться тем, что я безжалостен по отношению к тебе. Понимаешь? Для меня все это детский лепет, не бери в голову. Эй, Санчо!
Санчо, как всегда, залился истерическим смехом, «прикинулся деревенским дурачком», как это называла Лилиана. Она рассмеялась вместе с ними, но не от всей души.
— Я открываю свой собственный мир, — говорил Джей. — Определенные условия существования, вселенную чистого бытия, где человек, подчиняясь инстинктам, живет как растение. Никакого желания. Великое безразличие, подобное безразличию индуса, пассивно ожидающего, когда внутри него прорастут некие семена. Что-то среднее между европейской волей и восточной кармой. Я хочу радости просветления, радости того, что вижу вокруг себя. Хочу принимать вибрации. Восприимчивость ко всему в жизни. Приятие. Вбирание в себя. Только быть. Такова испокон веков роль художника — демонстрировать радость, экстаз. Моя жизнь была долгим противостоянием воле. Я привык позволять событиям происходить самим по себе. Избегал службы и обязанностей, хотел выразить в живописи освобождение от воли и напряжения ради чистого наслаждения.
Такую вот атмосферу создавал вокруг себя Джей, и Лилиана откликалась на нее: расслабленность тела и жестов, подчинение потоку, стремление к наслаждению, которое, насытившись сам, он дарил другим. Когда что-либо угрожало его наслаждению, он умел мастерски избежать опасности. Джей создал нечто, на первый взгляд не тронутое свойственной его времени тревогой, но Лилиана чувствовала, что во всем этом есть некий изъян. Не знала только, какой именно.