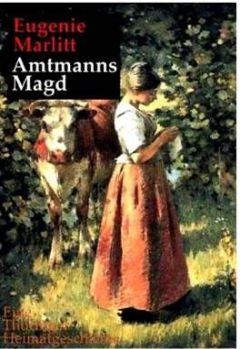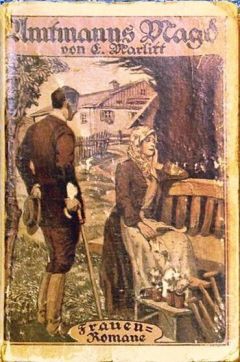Ознакомительная версия.
— Это ты, Измаил? — спросил Ахмед.
— Давай раздевайся, помогу.
— Я не болен бешенством, Измаил.
— Конечно, не болен.
— Посмотри в книгу, разве там написано, что бывает температура?
— Зачем смотреть, братец?
— Посмотри, говорю же.
Измаил не смог ответить: «Уже посмотрел». Ему стало стыдно. Он открыл книгу. Сделал вид, что читает.
— И что пишут?
— Ни о какой температуре речи нет.
— Ты правду говоришь?
— С чего это мне тебе врать, братец мой?
— Ты же не Керим, легко соврешь.
Ахмед заснул.
* * *
На следующий день после женитьбы, сидя перед начальником тюрьмы в его кабинете на диване с провалившимися пружинами и облезшей бархатной обивкой, Нериман посмотрела на мужа осуждающе, когда он захотел взять ее за руку. Измаил убрал руку. Нериман сказала мужу:
— Я получила письмо от брата. Его опять мучает воспаление седалищного нерва.
— У меня та же беда, — сказал начальник тюрьмы. — А чем лечится ваш брат? Всякие уколы и салициловая кислота мне не помогают, я даже закапывался по шею в горячий навоз, все равно не помогает.
— Мой брат принимает какие-то таблетки.
— Таблетки — это детская игрушки. Сколько лет вашему брату?
— Хворь к возрасту отношения не имеет, но пожилых людей лечить труднее.
Измаил подумал: «Пожилые люди».
Внезапно он подумал, что и ему уже сорок. А Нериман сколько лет? Должно быть, двадцать восемь-двадцать девять. Он украдкой взглянул на Нериман: выглядит на двадцать два. А нам уже сорок. Вот так прошла целая жизнь. Это может стать заглавием книги. «Так прошла целая жизнь». Разве плохо прошла? Почему же плохо, братец мой? Но прошла.
Начальник тюрьмы взглянул на часы. Нериман сказала:
— Я пойду.
Они с Измаилом пожали друг другу руки. Она пожала руку и начальнику тюрьмы.
— Что мне принести тебе на той неделе? — спросила она Измаила.
Измаил не ответил. Он смотрел на ноги Нериман. Он впервые заметил, какие они маленькие, какие стройные. А нам сорок.
Однажды Нериман пришла на свидание вместе с обритой наголо маленькой девочкой. Та была одета так, как принято одевать детей в Стамбуле. Ребенку было на вид лет пять-шесть. Девочка крепко ухватилась за руку Нериман и со страхом озиралась по сторонам.
— Зачем ее, бедненькую, так оболванили? — спросил Измаил.
— Вши у нее были. Такие, что ни мытье, ни лекарство не помогали. И я отвела ее к цирюльнику. Ничего, еще гуще вырастут волосы.
— Ты сама отвела ее к цирюльнику?
— Я удочерила Эмине. Теперь у нас с тобой есть дочка.
Измаил рассмеялся:
— Значит, теперь у нас с тобой есть дочка! Только пускай поскорее у нее волосы отрастут. Да и худенькая она, братец мой.
— Не пройдет и двух месяцев, как она поправится. Волосы отрастут. Моей Эмине очень пойдет голубая лента. Я так люблю свою Эмине…
Внезапно Измаил все понял:
— Ты очень хочешь иметь ребенка, Нериман?
— Очень… Но вот, теперь уже есть.
— Значит, хочешь стать матерью?
— Почему бы и не хотеть? Материнство… Знаешь, иногда… Но вот, теперь я уже стала матерью. А ты — отцом.
— Давай разведемся, Нериман.
— Мы только три месяца назад поженились.
— А через шесть месяцев давай разведемся. Ты молода, тебе двадцать восемь-двадцать девять лет. А я уже сорокалетний мужик. Еще когда выйду на свободу — неясно. Я испортил тебе жизнь. Ты снова выйдешь замуж, по-настоящему станешь матерью.
Нериман заплакала — сначала беззвучно, а потом навзрыд. Вместе с ней и Эмине. В зале свиданий на них никто не обратил внимания — ни заключенные, ни посетители. Слезы и причитания здесь — привычная вещь. Измаил сказал:
— Ради Аллаха, прекрати плакать, братец. Я пошутил, милая. Смотри, вон и Эмине просопливилась. Вытри-ка ей нос.
Нериман, стараясь сдержать слезы, утерла носик Эмине платком.
Вечером того дня Измаил сел на подоконник окна своей камеры и схватился обеими руками за железную решетку. Посмотрел на горы вдалеке. Горы — лысые, но лысины с краснотой. На вершине одной из гор, в начавшей темнеть голубизне, висит недвижно облачко размером с носовой платочек, такой, как у Нериман, такой, каким она вытирала нос Эмине. Нериман двадцать восемь или двадцать девять лет, но выглядит она на двадцать два, самое большее, на двадцать четыре года. Здоровье у Нериман хорошее. Измаил не помнит, чтобы она хоть раз болела. Но разве это имеет отношение к болезням? Любая женщина хочет стать матерью. И эта девушка тоже хочет стать матерью. И любая женщина! И мужчина этого хочет. Но не познав мужчину, матерью стать нельзя. Брось ты эту болтовню, братец. Это мы, мужчины, придумали. Почему я не уложил Нериман в постель? Почему не поженились, когда я был на свободе? А разве для того, чтобы лечь в постель, обязательно нужно жениться? Разве иначе Нериман бы отдалась? Однажды дома в Кадыкёе едва не отдалась… Почему ничего не вышло? Потому что я был ослом. Ахмед же вот не мог дотронуться до Аннушки. Болтовня это все, не прошло и шести месяцев, как оба созрели. Да, но зачем мы сейчас поженились? Ведь не я говорил: «Надо пожениться во что бы то ни стало». Я не уговаривал ее. Тьфу. Черт побери… Ахмед вот «тьфу» не говорил, говорил просто «черт побери», и все… Так что не вини себя за нее…
На следующее утро Измаил, бреясь в парикмахерской — он брился только в дни свиданий, но тем утром нарушил это правило, — спросил у брадобрея Али, сидевшего за убийство:
— На сколько лет я выгляжу, Али?
— На сорок-сорок пять.
В плохом настроении работал Измаил в тот день до самого вечера в мастерской портного Рамиза — он арендовал у Рамиза половину мастерской и чинил там радиоприемники, всякие швейные машины и прочее.
Мать Измаила иногда приезжала из Манисы и одну-две недели жила у невестки. Измаил так умолял ее:
— Матушка, ну переезжай сюда!
Но мать не соглашалась.
— На доме дом не выстроишь. Я люблю Нериман как родную, однако если мы будем с ней в одном доме, то сгрызем друг дружку, не пройдет и полгода. А заводить здесь свой дом я уже не в силах.
Большинство заключенных — крестьяне. Тюремное начальство в день выдает им только по семьсот граммов хлеба и больше ничего. А еще воду, и еще до утра горит электрический свет. Ни кроватей, ни одеял, ни одежды. Или тебе родные все принесут, или найдешь что-то себе сам.
Есть один надзиратель. Родом из Бурсы. Ярый сторонник немцев. Каждый вечер, сказав на ночь арестантам:
— Помогай вам Аллах, — и задвинув снаружи железную задвижку на двери камеры, он открывает волчок и подзывает Измаила: — Поди-ка сюда, уста. Опять Гитлер Лондон пожег. Выиграет немец войну. Так что давай не упрямься, уста. Давай, скажи, уста, что выиграет немец войну.
— Не выиграет, — отвечает Измаил.
— Эх, ну твое дело, — отвечает надзиратель, и на следующий вечер у них снова повторится тот же разговор.
Так вот, мать Измаила умерла как раз у ног этого надзирателя. В зале свиданий. За решеткой.
— Я тебе привезла долмы на оливковом масле, Измаил. Пока везла сюда из Манисы, она немного помялась, угости и эфенди-надзирателя, сынок, — сказала она. И внезапно рухнула к ногам надзирателя из Бурсы.
Нериман лежала дома с гриппом — ее первая болезнь, — поэтому бедная старушка пришла одна. Ее тело отправили в городскую больницу. Врачи сказали: «Остановка сердца». Теперь она уже шесть месяцев лежит на кладбище, которое виднеется за стенами тюрьмы, оставшимися со времен генуэзцев.
Измаил опять сидит на подоконнике в своей камере и смотрит на кладбище, которое в лунном свете очень похоже на пожарище. Он с трудом свыкся со смертью матери, потому что ему было трудно поверить в это… Она упала у него на глазах; из этого же окна, однажды после полудня, он видел, как ее хоронили под яростным светом солнца; но видеть, знать и осознавать — это одно, а заставить себя поверить — совсем другое. Нериман где-то через месяц после ее смерти сказала:
— Теперь я стала по-настоящему матерью тебе.
О нападении Гитлера на Советский Союз Измаил узнал у себя в мастерской, когда ремонтировал приемник для главного прокурора. Приемник был марки «Филипс». Должно быть, у него от этой новости стал такой вид, что его напарник по мастерской, портной Рамиз, спросил:
— Что с тобой? Что случилось?
— Смерти своей жаждет, собака.
— Кто?
— Фюрер.
Вскоре новость разошлась по всей тюрьме, и все говорили:
— Амнистия, выходим на свободу!
Измаил пытается разобрать русскую речь, вслушивается в советские сводки в приемниках, которые он чинит и с починкой которых теперь все время затягивает. Вся пресса, анкарское радио — все болеют за немцев, не считая одной-двух газет вроде «Тан». Надзиратель из Бурсы больше не говорит Измаилу по вечерам: «Выиграет немец войну, давай не упрямься». Измаил обругал на чем свет стоит и его самого, и всю его родню. Надзиратель не решился вывести Измаила из камеры и избить его — как бы то ни было, этот заключенный чинит приемники даже губернатору, — но страшную злобу затаил. Если его дежурство приходится на день свидания, то он приходит и назло встает между двумя решетками, прямо между Измаилом и Нериман. Он так долго ковыряется в еде, которую приносит девушка, своим железным прутом, что кушанье становится несъедобным.
Ознакомительная версия.