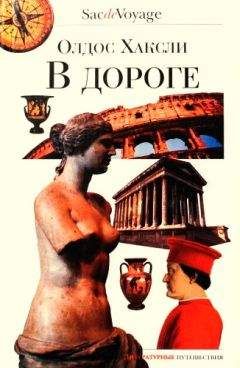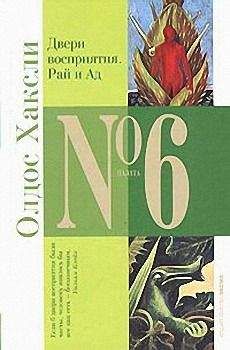С архитектурой произошло еще нечто более примечательное. В течение трехсот лет в Европе непререкаемым авторитетом пользовались классические законы. Готику с презрением забыли. О других стилях никто понятия не имел. Поколение за поколением архитекторов работало в одном направлении. Но до чего же разнообразных результатов они достигли! Используя одинаковые классические образцы, архитекторы создавали совершенно оригинальные и непохожие друг на друга здания. Брунеллески, Альберти, Микеланджело, Пьетро да Кортона, Кристофер Рен, Адам, Нэш — все эти архитекторы работали в одной классической традиции, создавая уникальные шедевры, один не похожий на другой.
Все это были гении, которые создавали бы шедевры в любых условиях. Что удивляет — так это достижения малых художников. В течение этого долгого периода даже работы ремесленника обрели качества, которые мы напрасно будем искать в творениях второразрядных художников наших дней. Благодаря отсутствию отвлекающих знаний, даже не очень талантливые люди в своих работах достигали высокого уровня. Они полностью сосредоточивались на том, чтобы извлечь максимум из собственной головы.
До чего же теперь все по-другому! Сегодняшний художник умеет — скажем, его научили — ценить художественные достижения всех народов, когда-либо обитавших на земле. Для него не существует одной правильной традиции; тысяча традиций требует его почтительного отношения, потому что все они подарили человечеству шедевры. Нет больше благословенного невежества, исчезло здоровое презрение ко всем традициям, кроме одной-единственной. Сегодня традиции нет или есть сотня традиций — что, в сущности, одно и то же. Знания, обретенные художником, отвлекают его, он напрасно растрачивает энергию. Вместо того чтобы всю жизнь систематически работать в одном направлении, он беспокойно мечется между всеми известными стилями, не решаясь выбрать ни один и заимствуя из всех.
Однако в искусстве нет коротких путей к успеху. Нельзя в течение получаса познать все секреты того или иного стиля, который был сотворен и доведен до совершенства стараниями многих поколений. За полчаса, правда, можно познакомиться с наиболее оригинальными чертами стиля — и потом создать карикатуру на него. Вот и всё. Чтобы понять стиль, надо посвятить себя ему, надо жить, если так можно выразиться, внутри него; надо сконцентрироваться на нем и много работать.
Однако концентрации как раз и мешают разнообразные знания — мешают всем, кроме очень талантливых и умных художников. Они-то способны взглянуть на себя со стороны. В каком бы физическом и духовном окружении они ни оказались, они себе не изменят. Знания оказывают разрушительное влияние на более слабых людей, на циников и ловкачей. В другом веке подобные им работали бы, не отвлекаясь, беря лучшее из какой-то одной традиции, стараясь и, главное, чаще всего достигая предела своих природных возможностей. А их потомки попытались извлечь лучшее сразу из нескольких десятков разных традиций. В результате появилась отвратительная выставка в Мюнхене. И такое бывает не только в Мюнхене, но и в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, во всем нашем просвещенном мире.
Тем не менее, можно получать знания, и они стали доступны. Их не прячут и не уничтожают. Нельзя вернуться в прежнее невежество, которое позволяло художникам прошлых времен годами, даже веками разрабатывать одну традицию. Знания принесли с собой беспокойство, неуверенность и возможность быстро сменить одну традицию на другую. За последние семьдесят лет сменилось бог знает сколько традиций! Прерафаэлиты, импрессионисты, приверженцы арт-ну-во, футуристы, постимпрессионисты, кубисты, экспрессионисты. Египтянам потребовалось бы не меньше ста веков, чтобы освоить такое богатство стилей. Сегодня мы изобретаем новый стиль, вернее, воскрешаем разные стили прошлого, используем их и отвергаем примерно раз в пять лет. Устойчивость старых традиций, утонченность вкуса, рожденные невежеством и нетерпимой изощренностью, канули в небытие. Вернутся ли они? В свое время художники, несомненно, вновь начнут пить из источника вдохновения. Наши головы постепенно переварят множество знаний и, проанализировав, разложат их по полочкам. Когда это произойдет, будет достигнута некая устойчивость, а возможно, это будет неуклонное, но медленное движение, потому что природа не стоит на месте. А пока что нам придется жить в эпоху рассеянной энергии, эксперимента и стилизации, беспокойства и безнадежной неуверенности.
Огромное пополнение наших знаний по истории искусств повлияло не только на самих художников, но и на всех, кто интересуется искусством. Ибо tout savoir est tout pardonner[39]; мы научились находить и ценить лучшее во всех стилях. Вольтеру и доктору Джонсону даже готическое искусство казалось варварством. Что бы они сказали, если бы мы попросили их восторженно оценить пластику полинезийской статуи или изображения животного, автор которого жил в доисторические времена? Благодаря знаниям мы можем с пониманием относиться к разным точкам зрения и ценить художественные стили непохожей на нашу культуры. Все это, вне всяких сомнений, неплохо. Однако наше понимание — весьма растяжимое понятие, тем более что мы очень боимся высказать нетерпимость к таким вещам, которые, при нашей всеядности, должны нам нравиться, даже если они не первоклассные.
Мы не довольствуемся тем, что стали ценить хорошие вещи, отвергнутые нашими предками. Аппетит приходит во время еды. Хорошего уже недостаточно, чтобы насытить нас; мы обязательно должны проглотить и плохое тоже. Чтобы оправдаться, мы придумали целую серию новых эстетических ценностей. Процесс, начавшийся некоторое время назад, идет по нарастающей, и теперь уже не осталось ничего, даже откровенно плохого, от чего мы не можем получать удовольствие.
Полагаю, исторически первой стадией разрыва со старыми стандартами вкуса было введение «колоритного». Колоритная вещь — вещь, отличающаяся качеством или набором качеств, более, чем обычных, нормальных. Природа этого явления, в общем-то, кроется в безразличии. Даже грязь в больших количествах может придать объекту некую колоритность. Идеальный колоритный предмет или сцена должны иметь несколько таких, но непременно контрастных качеств: например, избыток тени, контрастирующий с избытком света, избыток величия — с избытком убожества.
Нечто эксцентричное тоже может рассматриваться как колоритное, но с оттенком комического. Старые домишки, которые очень любил описывать Диккенс: дыры, углы, странные происшествия — типичный пример эксцентричного. В эксцентричном всегда есть что-то уютное, домашнее, что-то — пусть даже в комическом смысле — добродетельное, смешное, но доброе, как Том Пинч в «Мартине Чезлвите». Это викторианский средний класс превратил эксцентричное в стандарт эстетического совершенства. Благодаря своей любви к оригинальности, помноженной на любовь к колоритности, он заставил восторгаться множеством вещей, не имеющих отношения к искусству. То, что я называю «художественными ремеслами» или «народными промыслами» — это толстовская разновидность эксцентричного.
Великим изобретением более позднего времени стало «занимательное». По своей сути это предельно утонченный, высококлассный стандарт в оценке художественных произведений. Все, что плохо в искусстве, но с позитивным, а не негативным оттенком, вроде респектабельной скуки, может быть названо занимательным. Например, Вордсворт, когда пишет плохо, вовсе не занимателен. А вот Мур занимателен, потому что плохое у Мура — от его времени: очень колоритно, манерно и сладко. Вордсворт же плох и хорош на все времена. «Духовные сонеты» просто-напросто провальны, так же как лучшие куски из «Прелюдии» и «Прогулки» — совершенная поэзия.
Высокоразвитым чувством занимательного в отношении искусства теперь никого не удивишь. В наше время немногие из тех, кто всерьез интересуется искусством, обходятся без него. Занимательность обрела и коммерческую ценность: торговцы обнаружили, что могут неплохо заработать на мебели из папье-маше пятидесятых годов девятнадцатого столетия, а также на восковых цветах и статуэтках эпохи Луи-Филиппа. Люди, собирающие эти предметы, как будто тоже получают большое удовольствие — во всяком случае, какое-то время, — как если бы они собирали изящную мебель Хеппелуайта или изысканные поделки из слоновой кости четырнадцатого века. Собственно, а почему бы и нет, при условии, что они продолжают считать творения Хеппелуайта лучше викторианской мебели из папье-маше, а средневековые поделки из слоновой кости — лучше восковых цветов. Однако беда в том, что так считают не все и не всегда. И это великая опасность «занимательности»: ее приверженцы рано или поздно забывают о существовании прекрасного и возвышенного. В конце концов Эразм Дарвин становится предпочтительнее для них, чем Вордсворт, а Лонги — чем Джотто. И косвенно тому виной источник вдохновения.