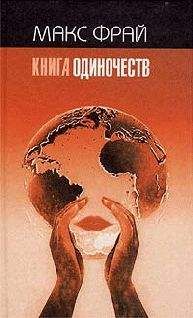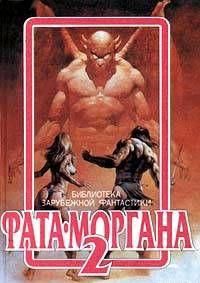Ознакомительная версия.
Спрашивать пришлось уже дома, у папы. Папа сказал мне, что евреи — просто национальность, вроде тех же армян. Ничего особенного.
Ну, насчет «ничего особенного» у меня было, понятно, свое мнение.
Доля была единственной еврейкой в классе, что для города О. — ситуация почти немыслимая. С другой стороны, у нас школа такая была: не английская, не математическая, зато учились там почти исключительно дети живших поблизости военных и сотрудников пароходства.
Долин папа был работником какой-то строительной организации. Уже не помню, как они все назывались — СМУ, что ли? Или еще как-то? До первого родительского собрания он представлялся мне рабочим в каске, мастерок в руке, кладущим кирпичи — ну, как в книжках и в мультфильмах рисовали строителей.
Все мои представления о реальности рухнули в конце учебного года, когда дядя Марик собственной персоной появился на торжественном утреннике, посвященном раздаче табелей.
На нем была рубашка с пиками, трефами, бубнами и червами. С карточными, то есть, мастями, красными и черными, такой рисунок. С огромным отложным воротом. С золотыми пуговицами.
Боже.
Нет во вселенной произведения дизайнерского искусства, которое впечатлило бы меня больше, чем рубашка дяди Марика.
Полчаса спустя, когда шок прошел, мне удалось разглядеть очки-«слезки», джинсы и длинные, ниже ушей, волосы. Наверное, из-за волос и очков лицо дяди Марика показалось мне лицом старшеклассника. Папа моей одноклассницы определенно не мог быть таким молодым.
Но он был.
Долина мама — это отдельная песня. Крошечная женщина удивительной красоты. С японским почему-то лицом, в короткой юбке, на немыслимых каких-то платформах. Иных подробностей не помню, помню только собственный восторг, сравнимый, разве что, с впечатлением от посещения павильона «Тропики» в Берлинском зоопарке, когда мимо меня впервые пролетела птичка-бабочка колибри, а одноклассница Марина завизжала прямо мне в ухо, так пронзительно, что по сей день вспомнить страшно. Мощный, словом, эффект.
— Смотри, во всем американском, — неодобрительно сказала моя мама моему папе, когда Долины родители поднялись, чтобы принять табель из дочкиных рук. — Видно, что евреи.
— Молодые еще, — добродушно отмахнулся папа. — Когда и наряжаться, если деньги есть?
Маминого ворчания оказалось достаточно, чтобы в моей детской башке родилась диковинная формула: эти люди потому так красивы и не похожи на прочих, что родились евреями. Евреи, — стало мне ясно, — даже круче, чем монголы и армяне. О прочих и говорить смешно.
Потом, конечно, быстро выяснилось, что евреев вокруг довольно много (среди учителей, например), и все они разные. Не все, увы, были красивыми и нарядными, как Доля и ее семейство. Но почти все рано или поздно оказывались в числе моих друзей и доброжелателей — ну, почему-то так все складывалось. Правда, крикучий, вредный, старый и некрасивый завуч Аркадий Исаакович тоже оказался евреем. Это меня смутило, но не очень: дети из тех классов, где он преподавал, говорили, что он на самом деле добрый, почти никогда не вызывает в школу родителей и даже завышает отметки. Только к ору нужно притерпеться, и все хорошо.
Классу к восьмому, когда думать про национальности стало совсем скучно, как раз подоспела дополнительная информация: оказывается, евреев не любят, даже в институты почти не принимают, а уж чтобы в Высшую мореходку или в артиллерийское училище, куда, согласно семейным традициям, стремились почти все мальчики из нашей школы — и вовсе немыслимо.
Поскольку к тому времени мне уже было понятно, что все вокруг устроено неправильно, и люди, по большей части, мудаки, бытовой антисемитизм стал для меня наилучшим аргументом в пользу евреев. Если их не любят, обижают и не пускают, значит, они действительно чем-то лучше прочих людей. Не то тайные эльфы, не то потомки атлантов — поди разбери. Но ясно, что дружить с евреями должно быть интереснее, чем с прочими.
К тому времени, как мне удалось понять, что все люди очень разные (а по большому счету, вполне одинаковые) и окончательно забить на национальный вопрос, лица еврейской национальности успели:
— приохотить меня к поэзии и старинной музыке;
— разнообразить мой читательский рацион романами Гессе и Вонегута;
— разбить мне сердце (2 раза);
— пособить в склеивании разбитого сердца (столько раз, сколько понадобилось);
— приучить меня к передвижению по стране автостопом;
— привить вкус к перемене мест;
— вообще привить вкус;
— дать мне возможность нелегально прирабатывать за деньги (тогда это называлось «халтура»);
— вдохновить меня на занятия живописью;
— подарить мне альпинистский пуховик и много других необходимых для выживания вещей;
— научить меня играть в карты;
— накормить и напоить меня столько раз, что пальцев на всех руках Авалокитешвары не хватит сосчитать;
— снабдить меня таким количеством самиздата, какого, по чести сказать, хватило бы для воспитания дюжины диссидентов и трех гуру районного масштаба;
— вылечить меня от нескольких болезней;
— несколько раз похвалить меня вслух в тех ситуациях, когда мне это позарез требовалось;
— худо-бедно, но вколотить в мою башку английский язык;
— дать мне вполне внятные и удовлетворительные ответы на некоторые неразрешимые «вечные» вопросы, типа «что делать?» и «кто виноват?».
И еще великое множество других прекрасных деяний совершили для меня представители этого библейского народа. Такое впечатление, что других людей вовсе вокруг не было.
Ну, разве только пить меня научил мой собственный польский папа, а водить машину — простой русский мужик с лицом и фигурой Будды.
Но это уже совсем другая история.
Эта книга посвящается Андрюше,
который много думал о смерти и меня приохотил.
Сам-то Андрюша давно умер, а я — живу, думаю.
И понимаю, что совершенно невозможно сесть да и написать текст, от которого люди вдруг возьмут да и перестанут бояться смерти. Вот просто сядут в уголочке, почитают какие-то правильные слова, записанные в определенном волшебном порядке да и станут жить легко, как водомерки бегают.
Такие слова уже есть, скажете? Библией, к примеру, называются? Ан нет, истово верующие обычно боятся смерти ровно так же, как атеисты и прочие неопределившиеся. Потому что это ведь нутро живое, трепетное боится, а не умная или глупая, допустим, голова. А чтобы договориться с нутром, не слова нужны, конечно же. Всякие бывают рецепты, но уж точно не слова.
Спрашивается, зачем тогда вообще буковки складывать?
Впрочем, понятно зачем. Складывающий буковки, пока складывает, как раз и живет легко — вот как водомерка бегает, да.
Сколько уж воды перемеряли — целый Мировой океан. А все неймется.
Ну, оно и понятно.
Эта книга посвящается Милане,
которая говорила, что я никогда не повзрослею. И, по счастью, оказалась совершенно права.
И по сей день я иногда вдруг с ужасом и восторгом осознаю, что практически все мои знакомые — взрослые.
Меня окружают взрослые люди. Они говорят со мною на равных. Некоторые, особо одаренные, умудряются даже принимать меня всерьез.
Называя свой возраст, я почти всегда трусливо прибавляю пару лет к так называемой «настоящей» цифре. Пока, тьфу-тьфу, не разоблачили. У меня много друзей, которые, кажется, искренне верят, что они МЛАДШЕ меня. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Жизнь моя так хороша, что страшно даже. Взрослые не делают замечаний, когда я курю и ругаюсь матом. Они не мешают мне не спать по ночам и не заставляют жрать суп. Некоторые взрослые даже предлагают мне алкоголь и наркотики.
У меня, более того, есть взрослый загранпаспорт и взрослые водительские права. Пару раз меня даже принимали на какую-то взрослую работу и платили за нее настоящие, взрослые деньги.
Кажется, мне таки удалось всех перехитрить.
Эта книга посвящается Лизавете Мироновне,
которую все прочие обитатели коммунальной квартиры называли баба Лиза.
Она находилась на той стадии жизненного пути, когда дела земные все еще волнуют сердце, но для их решения уже используется какая-то иная (возможно, небесная) логика.
Она была очень стара или, по крайней мере, казалась очень старой. Впрочем, ее сыну, который часто приносил старушке продукты, было явно за пятьдесят.
Сына баба Лиза то ли не узнавала, то ли просто не любила, поэтому обычно ему приходилось оставлять продукты в коридоре, под дверью: в комнату его почти никогда не пускали.
Лизавета Мироновна обычно открывалась радостям жизни по ночам. Например, около полуночи она обычно начинала играть на пианино. Иногда музицирование сопровождалось пением, но голос у старушки был слабый, поэтому получалось не очень ужасно.
Ознакомительная версия.