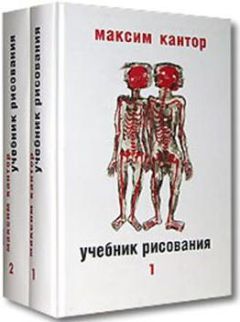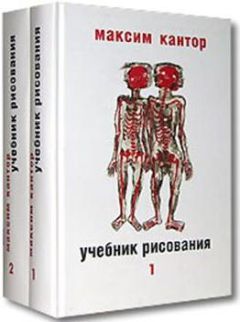- Россия всех спасет!
- Получается, больше некому.
- И Наполеона остановим, и лагеря установим! И весь мир захватим, везде помойку учиним. То-то славно!
- Мы никого не захватывали. Освобождали, это да.
- Чехословакию, например. От чехов. В Прагу мы танки зачем ввели? Прогресса люди хотели. Кому мешало?
- Не понравилось им, значит, что мы танки ввели.
- А тебе понравилось бы, если бы к тебе домой на танке приехали?
- А когда их в сорок пятом освобождали, когда в сорок пятам году танки вводили - им нравилось? Дед там воевал, он летчик был. Он везде воевал, и в Испании летал, и с немцами дрался. Там в Германии и погиб - он на таран пошел.
- При чем тут твой дед?
- Просто вспомнил. Много наших погибло за эту самую Прагу: немцы в нее мертво вцепились. В первый раз нас цветами встречали. А во второй раз обиделись. Подождем до третьего раза, я так думаю. Может, им опять помощь нужна будет. Я чехов люблю, хороший народ. Живут нормально, пиво пьют, забот никаких. Русским бы так!
- А русским и так хорошо, с заботами. У нас не в том радость, - нам бы вот кого освободить, это да. Просят, не просят - все равно освободим. Пускай они тоже свободные по пустырям погуляют! - мальчик говорил и переживал.
- Перестань, - ответил другой мальчик, - кому мы сегодня мешаем? Наоборот - сюда, к нам, все лезут.
- Славa богу, наконец-то добрались до коммунистов! - его собеседник произнес эти слова солидно, как человек, уставший от коммунистической диктатуры.
- Ты мне лучше скажи, зачем они на наши пустыри суются, если здесь так плохо? Медом эта помойка, что ли, намазана? Одного не пойму: кому мешает, что нам плохо? Что они все сюда лезут, на эту свалку, на что зарятся? Давно бы махнули на нас рукой - а им все покоя нет. По-моему, и Македонский где-то в Скифии окочурился. Зачем он-то поперся?
- Черная дыра! Болото! Что сюда ни попадет, сгинет к чертовой матери! Нашел чем гордится! Македонского с Наполеоном русские уморили!
- Не волнуйся ты за своих благодетелей! Новых македонских так просто не уморить.
- Ты хоть уважительно говори про тех, кто прогресс твоей стране несет!
- А я не просил. Кому прогресс нравится - пусть туда и едет. Слушай, чего тебе здесь делать? Поехал бы, как все едут. Где история, куда подальше, туда и поезжай!
- Я бы хоть завтра. Кто пустит? Нет, вы здесь, на Родине уморите. Носом в портянку повонючее. Чтоб понял, как Родину надо любить. Что полсвета социализмом загадили, стену поперек Берлина поставили, лагерей понастроили - это мы мир защищали. Только почему в России так погано, а во Франции так хорошо? Почему во Франции великая культура - а у нас пустыри да свалки?
- Во Франции не был не знаю, а у России культура великая. Такой больше нет. Уж лучше пустыри, чем Наполеон и Гитлер.
- Гитлера разбила, кстати, коалиция!
- В сорок четвертом году еле раскачалась твоя коалиция.
- А Англия?
- Что - Англия?
- Англия не участвовала в победе?
- Что там зависело от этой Англии! По Африке два батальона гоняли взад-вперед.
- Значит, три раза спасли русские мир?
- Три раза.
- А англичане никогда не спасали? Нельсон разве при Трафальгаре не победил?
- Что проку от твоего Нельсона без Кутузова?
- А Карл Великий?
- Арабов резал? Дело хорошее. В Израиле его любить должны. А так, что с него проку?
- Русская похвальба всегда кончается одинаково: бей жидов, спасай Россию!
- Мы, кажется, про евреев не говорили. И Россию спасать не нужно. Она как-нибудь сама. Может, в ней одной-то история и есть, иначе с чего бы она всем так мешала.
- История у нее есть - как бы побольше народу съесть. Она ведь живет потому, что ест свой народ. И тебя сожрет, и меня.
Мальчики замолчали и шли некоторое время молча. Почти все их разговоры кончались одинаково. Они не ссорились, совсем нет, и без этих разговоров не могли обойтись, но всегда наступал некий предел, за которым следовало раздражение, и они научились останавливаться. Один из мальчиков считал себя гражданином мира - так он был обучен в семье, он много читал и тяготился тем, что ему предстоит всю жизнь прожить на окраине цивилизации. Другой мальчик жил в бедной семье в бараке, испытывал патриотические чувства, гордился своим убогим домом - и обижался, если школьный друг давал ему понять, что жизнь вокруг плохая. Пока они шли в молчании, каждый из них придумывал про себя новые аргументы и вспоминал прочитанные книжки, которые надо привести в пример. Им обоим, как обычно это бывает, казалось, что главного они не сказали и не получилось выразить то, что они чувствуют и думают. Они готовили новые реплики, чтобы использовать в новом разговоре, но этот, сегодняшний, возобновлять не хотелось. Один думал: надо было сказать, что Россия пресекает любое движение истории. Здесь, на этой территории, все останавливается. Сестра брала его на лекции и семинары в клубы прогрессивных деятелей культуры - и он научился говорить сложными книжными словами. Да, так и надо будет сказать в следующий раз. Еще он подумал, что нужно найти отличие в движении войск Наполеона и Гитлера. Ведь ясно же, что это совсем разные вещи, а объяснить не получается. Или, скажем, Чингисхан и его походы, это движение мирового духа или нет? Постепенно мысли обоих успокоились и вернулись к другим вещам.
- Уеду к нашим, в деревню, - сказал другой мальчик, патриотически настроенный, - возьму удочки. Надоел город.
Почему-то его собеседнику обидными показались слова вполне безобидные - «к нашим», «деревня», «удочки». Было в них что-то вульгарное и добротное, что-то безнадежное. Так вот у них все здесь устроено, бессвязно думал мальчик, они любят место, в котором живут, они все договорились, а я тут лишний. И должен терпеть. Вечерняя жара давила и томила, воздух можно было осязать как чужое неприятное тело. Московское лето миновало легкий июньский обман и вошло в пору расцвета - потного, несвежего. Хотелось одного вдохнуть воздуха, но стоило открыть рот, и внутрь входила плотная горячая атмосфера, и дышать делалось тяжелей.
- А я уеду в Париж, - сказал первый мальчик, - я буду жить на набережной Анатоля Франса, окнами на Сену. Вечером буду выходить на балкон и смотреть вниз, на реку. Я люблю седьмой аррондисман. По нему проходит бульвар Сен-Жермен, а это мой любимый бульвар. Представляешь, я буду смотреть на баржи на Сене, ходить в Лувр, гулять под каштанами и никогда уже не увижу ни нашего пустыря, ни пятидесятого отделения милиции, ни нашей школы. «Ротонда», кафе «Ля Куполь», мне все знакомо.
- Как же ты без нашего пустыря? Где гулять будешь?
- Уж найду место, - мальчик начинал говорить в шутку, но неожиданно разволновался, внезапно его охватила тоска, непонятная ему, щемящая сердце тоска по счастью. Он отчетливо понимал, что никуда и никогда с этого пустыря не денется и никакого счастья в его жизни не будет. Это было тем более странно, что у него не было никакого представления о счастье; он никогда не целовал девушку, не гулял под луной, не пил вина, не делал ничего такого, что отвечало бы взрослому знанию счастья, - но вдруг ему сделалось непереносимо тоскливо: он почувствовал, что никогда не будет счастлив на этом пустыре, он почувствовал, как проходит его жизнь, как она уходит от него каждую секунду, как бессмысленно текут душные летние дни. Он посмотрел по сторонам, и у него перехватило дыхание от бессилия. Он чувствовал, что в груди у него живет горе, но не мог выразить это - ни словами, ни даже ясными мыслями. Дело было не в истории и не в мировом духе, а в самой жизни, которая уходила прочь, и он вдруг это почувствовал. И поделиться таким горем было невозможно.
- Ты вот в Париж уедешь, - сказал другой мальчик, которого точно так же, как и первого, покоробила речь собеседника, он обиделся на слова «Париж», «бульвар Сен-Жермен». Эти слова рассказывали о таком мире, в котором его дом и маленькая комната, где он жил с мамой, делались вовсе жалкими, - ты уедешь в Париж и знать нас не будешь. А мы здесь останемся. Нас в Париж не позовут. Мы в другом месте живем. Знаешь, откуда Ванька родом? - Ванька был их одноклассник, с которым мальчики не особенно дружили, потому что Ванька не любил читать. - Знаешь, где его родители живут?
- Где?
- Деревня называется - Грязь. Он из этой деревни в Москву учиться приехал. У них там школы нет. Десять классов закончит и обратно поедет.
- Пусть остается, - великодушно сказал первый мальчик, - Москва большая.
Так шли они, огибая канавы и кучи мусора, и, сколько видел глаз, впереди тянулся пустырь, сухой и скучный.
Потом один мальчик спросил:
- Скажи, а за что ты смог бы отдать жизнь?
- Отдать жизнь? За разное, наверное.
- Я серьезно спрашиваю. За что?
- Да мало ли за что. Я много чего люблю.
- Так любишь, что жизнь отдашь?
- Ну не знаю. А ты за что?
- За свободу. Нет, вообще-то, не знаю. Наверное, все-таки за свободу.
- За чью?