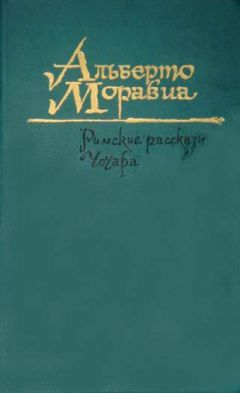С первых же дней нашего пребывания в Санта-Еуфемии Микеле стал проводить с нами целые дни. Не знаю, что влекло его к нам: мы женщины простые и мало чем отличались от его матери и сестры: к Розетте он тоже не испытывал особого влечения, но об этом я буду говорить позже. Вероятно, он предпочитал наше общество обществу других беженцев и даже своей семьи, потому что мы были из Рима, говорили не на местном диалекте, как все остальные, и не болтали целыми днями о Фонди, совершенно его не интересовавшем, даже наскучившем ему, как говорил он нам несколько раз. Микеле приходил к нам с утра, едва мы поднимались с постели, и проводил с нами весь день, отлучаясь только на время завтрака и обеда. Он до сих пор стоит как живой у меня перед глазами на пороге нашей комнаты, куда заглядывал, говоря нам веселым голосом:
— Не хотите ли пройтись немного?
Делать нам с Розеттой было совершенно нечего, разве только сидеть каждая на своем месте: я на кровати, а она на стуле, — поэтому мы охотно соглашались, хотя прогулки были всегда одними и теми же: или мы шли вдоль мачеры и, обогнув гору, выходили в соседнюю долину, как две капли воды похожую на долину Сант-Еуфемии, или по каменистой тропинке через дубовые заросли поднимались до перевала, или, наконец, спускались по одной из тропинок вниз. Почти всегда мы выбирали ровную дорогу, менее утомительную, шли вдоль мачеры налево до уступа горы, отвесно спускавшегося вниз к долине. На этом уступе росло большое дерево, окруженное зеленым кустарником, залитым солнцем, а земля была покрыта мягким, как подушка, мхом. Мы садились у самого края выдававшегося над долиной уступа, недалеко от голубой скалы, с которой можно было как на ладони видеть весь Фонди, находившийся под нами, и сидели здесь целыми часами. Что мы там делали? Мне трудно ответить на этот вопрос. Розетта и Микеле бродили иногда по зарослям в поисках цикламенов, которых здесь бывает очень много осенью, и растут они густо, большие и красивые, возвышаясь своими ярко-розовыми венчиками над темным мхом. Розетта собирала букет, приносила его мне, а я, возвратившись домой, ставила цветы в стакан на столике в нашей комнате. Иногда же мы сидели и ничего не делали, просто смотрели на небо, на море, на долину и горы. Сказать по правде, я ничего не могу вспомнить об этих прогулках, потому что в них ничего особенного не было, кроме, конечно, рассуждений Микеле. Я помню его рассуждения, как помню его самого, потому что в его словах было для меня много нового, да и он сам был совершенно новым для меня человеком, с такими людьми, как он, я никогда в жизни не встречалась.
Мы были темные, а он прочел много книг и знал много вещей. Но у меня был жизненный опыт, которого ему недоставало, и теперь я думаю, что он со своими книгами и знаниями был вес же очень наивен, совершенно не знал жизни и обо многом имел совсем неправильные представления. Например, я помню одно из его рассуждений в один из первых же дней нашего знакомства.
— Ты, Чезира (Микеле обеих нас называл на ты, как и мы его), лавочница и заботишься только о своей лавке, но, к счастью, торговля не испортила тебя и ты осталась такой же, какой была в детстве.
— Кем я осталась? — спросила я его.
— Крестьянкой, — ответил он. Я сказала:
— Вот уж обрадовал… Крестьяне не знают ничего, кроме земли, не знакомы ни с чем, живут, как животные.
Он засмеялся и ответил:
— Теперь это комплимент. Сегодня те, кто умеет читать и писать, те, что живут в городе и называются синьорами, они-то и есть настоящие невежды, дикари, некультурные люди… С ними больше ничего не сделаешь, а с вами, с крестьянами, все можно начать сначала.
Я не поняла и спросила:
— Что значит начать сначала?
— Ну, одним словом, сделать из вас новых людей. Я воскликнула:
— Сразу видно, что ты не знаешь крестьян, дорогой мой!.. С крестьянами ничего не сделаешь. Кто такие крестьяне? Это самые старые люди на земле. Как же ты сделаешь их новыми? Они были крестьянами еще до того, как появились люди в городах. Как есть крестьяне, так и будут крестьянами.
Микеле снисходительно покачал головой и ничего не сказал, а мне показалось, что он видел в крестьянах людей, какими крестьяне не были и никогда не станут, он видел их такими, какими он хотел, чтобы они были по известным одному ему причинам, а не такими, какими крестьяне были на самом деле.
Микеле отзывался хорошо только о крестьянах и рабочих, но мне казалось, что он не знает ни тех, ни других Однажды я ему сказала:
— Ты, вот, Микеле, говоришь о рабочих, а сам их не знаешь.
Он спросил:
— А ты знаешь?
— Ну, конечно, — ответила я, — ко мне в лавку приходит много рабочих.
— Каких рабочих?
— Всяких: кустари, лудильщики, каменщики, электромонтеры, столяры, всякий трудовой люд.
— И по-твоему, какие же они, рабочие? — спросил он насмешливо, как бы ожидая услышать от меня глупость.
Я ответила:
— Не знаю, какие они, дорогой мой, для меня разницы нет… Такие же люди, как и все остальные… есть среди них и хорошие и плохие… Некоторые из них ленивы, другие прилежны, одни любят своих жен, другие бегают за уличными девками, некоторые пьют, другие играют в карты… Одним словом, всякие люди есть среди них, как среди синьоров и крестьян, среди служащих и всех других.
Тогда он сказал:
— Может быть, ты и права… Ты видишь в них людей, подобных всем другим людям, и ты права, что так смотришь на них… Если бы все так рассуждали, то есть видели бы в них людей и обращались с ними, как с людьми, то некоторые вещи вообще не случались бы и, может быть, нам не пришлось бы жить теперь здесь в Сант-Еуфемии.
Я спросила:
— А как на них смотрят другие?
— Не как на обыкновенных людей, похожих на всех других, а только как на рабочих.
— А ты как на них смотришь?
— Я тоже смотрю как на рабочих.
— Значит, — сказала я ему, — ты тоже виноват в том, что мы находимся здесь… Я повторяю твои слова, что ты считаешь их только рабочими, а не такими же людьми, как другие, но я этого не понимаю.
А он мне:
— Да, я смотрю на них как на рабочих, но надо знать, почему. Некоторые видят в них не людей, а только рабочих, чтобы эксплуатировать их еще больше, я же вижу в них рабочих, потому что хочу помочь им.
— Одним словом, — высказала я вдруг пришедшую мне в голову мысль, — ты — бунтарь.
Он смутился и спросил у меня:
— Почему ты так думаешь?
— Один полицейский говорил у меня в лавке, что бунтари занимаются агитацией среди рабочих.
Помолчав немного, Микеле сказал:
— Допустим, что я бунтарь.
Но я продолжала настаивать на своем:
— А ты когда-нибудь агитировал среди рабочих? Он пожал плечами и очень неохотно признался, что никогда не агитировал. А я ему опять:
— Вот видишь, я же тебе говорю, что ты не знаешь рабочих.
На это он мне больше ничего не ответил.
Несмотря на такие серьезные разговоры Микеле, смысл которых был нам не всегда понятен, мы с Розеттой любили бывать с ним больше, чем с другими мужчинами Он был здесь самым обходительным и единственным, кто не думал ни о деньгах, ни о наживе, поэтому с ним было не так скучно, как с другими. Дела и деньги, конечно, играют очень большую роль в жизни, но когда люди говорят только об этом, слушать их становится скучно. Филиппо и другие беженцы говорили только о делах, о том, что можно продать или купить, о ценах и прибыли, которые были до войны и которые будут после войны. Все остальное время, когда они не говорили о своих делах, беженцы и Филиппо проводили за картами. Они усаживались в комнате у Филиппо прямо на полу, скрестив ноги и прислонившись к мешкам с мукой и фасолью, в шляпах на голове и с сигарами во рту, и целыми часами в комнате, полной дыма и вони, слышалось хлопанье карт, крики и проклятья, так что можно было подумать, что они убивают друг друга. Возле четырех человек, играющих в карты, стояло по меньшей мере еще четверо наблюдателей, как это обычно бывает в деревенских тратториях. Я всегда чувствовала отвращение к картам, мне непонятно, как можно проводить целые дни, играя этими грязными и засаленными картами, такими потрепанными, что на них даже нельзя различить фигур. Ко когда друзья Филиппо не говорили о своих делах и не играли в карты, а собирались просто, чтобы поболтать, то это было еще хуже. Я темная женщина, в жизни своей не видела ничего, кроме лавки и земли, но и я понимала, что эти бородатые взрослые мужчины, как только начинали говорить о чем-нибудь, не имеющем отношения к их делам, мололи ужасную чепуху. Мне это становилось особенно ясно, потому что я имела возможность сравнивать их с Микеле, человеком образованным, и хотя я часто не понимала того, что Микеле говорил нам, но чувствовала, что он говорит справедливые вещи. Эти же люди, повторяю, рассуждали как дураки или, еще хуже, как животные, если бы животные могли рассуждать, а когда они не говорили глупостей, то бранились самыми последними словами. Помню, например, одного из них, Антонио, пекаря, маленького чернявого человека, слепого на один глаз, который казался меньше другого, а веко все время дергалось, как будто в глаз что-то попало. Однажды четверо или пятеро из беженцев, среди которых был Антонио, разговаривали, сидя на камнях мачеры, о войне и о том, что случается во время войны; мы с Розеттой слушали, о чем они говорят. Антонио участвовал в войне в Ливии, когда ему было всего двадцать лет, и любил говорить об этой войне, самом большом событии в его жизни; между прочим, он как раз на этой войне потерял глаз. Сама не знаю как, только мы с Розеттой услыхали, что он говорил: