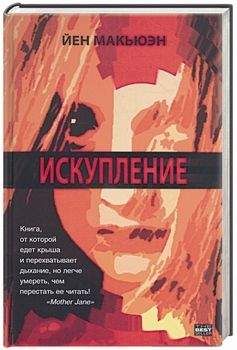Ознакомительная версия.
Его рассказ начался с яхт-клуба. До недавнего времени Леон был загребным во второй восьмерке, и, хотя все члены команды были им довольны, он предпочел, чтобы лидером стал кто-нибудь другой. Точно так же и в банке: ходили слухи о его повышении, но когда ничего из этого не вышло, он испытал облегчение. Потом разговор зашел о девушках: Мэри, актриса, так очаровательно игравшая в «Частных жизнях», без каких бы то ни было объяснений вдруг переехала в Глазго, никто не знал почему. Леон предполагал, что ей пришлось взять на себя заботу об умирающем родственнике. С Франсин, прекрасно говорившей по-французски и шокировавшей окружающих своим моноклем, они на прошлой неделе ходили на одну из опер Гилберта и Салливана и там в антракте видели короля, который, как им показалось, посмотрел в их сторону. Милая, надежная, происходившая из знатной семьи Барбара, на которой, как надеялись Джек и Эмилия, Леону предстояло жениться, пригласила его погостить недельку в замке ее родителей на севере Шотландии. Не поехать туда было бы проявлением неблагодарности.
Как только Сесилии начинало казаться, что брат иссякает, она подбадривала его новыми вопросами. Непонятно почему квартирная плата в Олбани[12] снизилась. Его старый друг встретил шепелявую девушку в положении, женился на ней и теперь совершенно счастлив. Другой покупает мотоцикл. Отец еще одного приятеля приобрел фабрику по производству пылесосов и утверждает, будто это все равно что купить лицензию на печатание денег. У кого-то там бабка, старая чудачка, мужественно прошагала полмили со сломанной ногой. Разговор, приятный, как вечерний ветерок, обтекал Сесилию и создавал волшебный мир добрых намерений и приятных результатов. Полусидя, плечом к плечу, они смотрели на дом своего детства, смутно-средневековые архитектурные очертания которого казались в тот момент причудливо легкомысленными; мамины мигрени представлялись комичной опереточной интерлюдией; горе двойняшек – сентиментальной блажью, а кухонный инцидент – не более чем веселой суетой оживленных домочадцев.
Когда настала очередь Сесилии отчитаться о последних месяцах, она не могла отрешиться от заданного Леоном тона, но ее рассказ невольно получился скорее саркастичным. Она высмеивала собственные попытки воссоздать генеалогическое древо – оно оказалось заледеневшим и голым, а также лишенным корней. Дедушка Хэрри был сыном неквалифицированного сельскохозяйственного рабочего, по какой-то причине изменившего фамилию с Картрайт на Толлис. И в церковных книгах не нашлось записей ни о его рождении, ни о женитьбе. Что же касается «Клариссы», которую Сесилия читала все эти дни, уютно устроившись в постели, то книга, без сомнения, являлась перевернутой версией «Потерянного рая» – по мере того как расцветают добродетели зацикленной на смерти героини, сама она вызывает все большее отвращение. Леон кивал, поджав губы; он не пытался делать вид, что понимает, о чем говорит Сесилия, но и не прерывал. В жанре фарса она описала недели тоски и одиночества дома, куда приехала, чтобы побыть с семьей, восстановить то, что было утрачено за время ее отсутствия, и где нашла родителей и сестру – каждого по-своему – отсутствующими. Поощряемая великодушным вниманием брата и веселой реакцией на ее болтовню, она рассказывала комические истории о том, как ей с каждым днем требовалось все больше сигарет, как Брайони разорвала свою афишу, о близнецах под дверью ее комнаты, о проблеме с носками, о чуде, которого требовала их мать от Бетти, заставляя ту приготовить салат из печеной картошки. Леон не улавливал никаких библейских аналогий. Между тем во всем, что говорила Сесилия, было какое-то глубинное отчаяние, внутренняя пустота или недоговоренность, и это заставляло ее тараторить все быстрее и все менее искусно преувеличивать подробности. Приятная ничтожность жизни Леона казалась теперь изящным артефактом, хотя его свобода была обманчивой, границы этой свободы определялись тяжелой, невидимой глазу работой и свойствами характера, которые она постичь не могла. Сесилия продела руку под локоть брата и прижалась к нему. Еще одна особенность Леона: в компании он был мягок и обворожителен, но сквозь ткань пиджака ощущалась твердь тропического дерева. Сесилия ощущала себя мягкой и прозрачной с головы до ног. Он ласково посмотрел на нее:
– Что случилось, Си?
– Ничего. Абсолютно ничего.
– Тебе бы в самом деле следовало приехать, пожить у меня и осмотреться.
По террасе кто-то ходил, в гостиной зажигали свет. Брайони позвала брата и сестру.
– Мы здесь! – крикнул в ответ Леон.
– Нужно идти, – сказала Сесилия, и, не расцепляя рук, они направились к дому. Проходя по розовой аллее, она мысленно задалась вопросом: есть ли действительно что-то, что она хотела бы поведать брату? Но признаться в том, как она повела себя сегодня утром, было немыслимо. – Я бы очень хотела поехать в Лондон. – Даже произнося эти слова, она представила, как ее тянет назад, как она не может заставить себя упаковать вещи и сесть в поезд. А что, если на самом деле ей вовсе не хочется уезжать? И она еще решительнее повторила: – Очень хотела бы.
Брайони металась по террасе от нетерпеливого желания поздороваться с братом. Кто-то что-то сказал ей из гостиной, и она, повернув голову, ответила. Подойдя ближе, Сесилия с Леоном снова услышали голос, доносившийся из дома, – это был голос матери, которая старалась придать ему строгость:
– Говорю в последний раз. Немедленно отправляйся наверх и переоденься.
Бросив долгий взгляд на брата с сестрой, Брайони нехотя двинулась к дверям. Она что-то держала в руке.
– Мы устроим тебя в один момент, – сказал Леон, продолжая прерванный разговор.
Когда они вошли в гостиную, освещенную теперь множеством ламп, мама, снисходительно улыбаясь, стояла у дальней двери. Брайони все еще была там, по-прежнему босая, в грязном белом платье. Протянув руки и комично копируя лондонское просторечие, чем часто смешил ее, Леон произнес:
– Ну-к, ну-к, гляньте-ка, эт-т чо ж, моя малая сеструха?
Пробегая мимо Сесилии, Брайони сунула ей в руку вдвое сложенную бумажку, завизжала: «Леон!» – и кинулась брату на шею.
Понимая, что мать наблюдает за ней, Сесилия изобразила удивление и развернула листок. К счастью, ей не потребовалось менять выражение лица, когда смысл короткого машинописного текста дошел до нее, – он был сосредоточен в одном повторявшемся ключевом слове, придававшем записке ошеломляющую окраску. Рядом Брайони рассказывала Леону о пьесе, которую написала для него, и жаловалась, что постановка сорвалась. «Злоключения Арабеллы», повторяла она снова и снова. «Злоключения Арабеллы». Еще никогда девочка не казалась такой оживленной, такой неестественно возбужденной. Не расцепляя рук, она обнимала брата за шею, стоя на цыпочках, и терлась щекой о его щеку.
Одно слово вертелось в голове Сесилии: «Конечно, конечно же». Как она могла не заметить этого? Вот все и объяснилось. Весь этот день, все предыдущие недели, все детство. Вся жизнь. Теперь все стало ясно. С чего бы еще она так долго выбирала, что надеть, спорила с ним из-за этой злосчастной вазы, видела все в каком-то ином свете и была не способна уехать? Почему она была так слепа, так бестолкова? Прошло довольно много времени, дальше стоять вот так, уставившись в лист бумаги, было небезопасно. Складывая письмо, она вдруг отчетливо поняла: послание не могло прийти незапечатанным. Она обернулась и посмотрела на сестру.
Леон как раз говорил Брайони:
– А как тебе такое предложение? Я отлично умею читать по ролям, ты – еще лучше. Может, разыграем пьесу вдвоем?
Сесилия обошла его и стала так, чтобы Брайони ее видела.
– Брайони? Брайони, ты это читала?
Увлеченная предложением брата, собираясь ответить ему, девочка завертелась в его руках и, почти уткнувшись в грудь Леона, спрятала лицо от сестры.
С другого конца гостиной послышался увещевающий голос Эмилии:
– Ну хватит, успокойтесь.
Сесилия обошла брата с другой стороны.
– Где конверт? – настойчиво спросила она. Брайони опять отвернулась и дико захохотала в ответ на что-то, что сказал Леон.
И тут Сесилия почувствовала, что в комнате появился кто-то еще, краем глаза заметила движение у себя за спиной и, повернувшись, оказалась лицом к лицу с Полом Маршаллом. В одной руке он держал серебряный поднос с пятью бокалами, до половины наполненными густой коричневатой жидкостью. Взяв один из них, он протянул его Сесилии:
– Я настаиваю, чтобы вы это попробовали.
Сложность переживаний убеждала Брайони в том, что она вступает на арену взрослых чувств и притворства. Это сулило обогатить ее писания. Ни в какой волшебной сказке не таилось столько противоречий. Неукротимое, безоглядное любопытство заставило ее разорвать конверт и выхватить из него письмо. Она сделала это сразу же, как только Полли впустила ее в дом, и хотя шок, испытанный по прочтении записки, полностью подтвердил догадку, это не избавило ее от чувства вины. Читать чужие письма неприлично, но Брайони важно, существенно необходимо было знать все. Она действительно радовалась встрече с братом, однако свой восторг отчасти преувеличивала, чтобы иметь возможность не отвечать на осуждающий вопрос сестры. Якобы охотно повинуясь распоряжению матери подняться к себе в комнату, она опять притворялась: на самом деле ей хотелось не просто убежать от Сесилии, но в одиночестве подумать о Робби, сформулировать первый абзац рассказа, складывавшегося у нее в голове под воздействием реальной жизни. Больше никаких принцесс! Сначала сцена у фонтана, исполненная угрозы, а в конце, когда оба действующих лица расходятся в разные стороны, – фосфоресцирующая пустота над мокрым пятном, оставшимся на земле. Все это следует осмыслить. Письмо привносило в сюжет нечто, напоминающее природные стихии, – брутальное, быть может, даже преступное, повинующееся законам тьмы, поэтому, не понимая толком, чем именно это грозит, Брайони была крайне возбуждена и не сомневалась: сестра в опасности, и ей может потребоваться помощь.
Ознакомительная версия.