— Кто он? Всю жизнь проживший рядом с нами, евший, как все, пьющий, как все, радующийся и печалящийся; плотник, столяр, пахарь, шофер, кто? Повивальная бабка, а может, старый цыган с того табора, помнишь, тот цыган, что водил за собой дряхлого медведя? Кто он, дающий нам так, что мы не заметили, как он дает, ублажающий нас так, что мы не замечали ублажения?!
— Пьющий, сквернословящий, курящий, чешущийся, рыгающий, богохульный, пребывающий в праздности всю жизнь среди нас, давший то, чего не видим мы, чего не понимаем, ибо разве дано нам понять это?! Ты прав! Разве такого не может быть?! Может, может, как раз может быть и такое! Тысячу раз может быть такое!
— Кто он, сажающий сады, ублажающий поля, разводящий рыбу в прудах и озерах, строящий кров — кто же откроет нам на него глаза? Никто не откроет!
— Куда уходит он — в землю, в небо? Он, давший знак, который не поняли, показавший, как надо жить, хотя никто не будет жить так, оставивший сад, оставивший хлеб?!
— А кто мы?! Посмотри же, наконец, кто мы — оставшиеся без всего, нагие, одинокие, кто мы?.. Что есть за нами? Сухостой — вот кто мы! Затянувшееся болото, бесплодные смоковницы. Где наши жены? Нет наших жен! Где дети наши?.. И какое семя разлили мы? Где оно, наше семя? Что толку в уме, что толку в прочитанных книгах?
— Не горе ли нам?! Горе! Впору посыпать волоса пеплом! Оглянись вокруг — что подле нас? Одиночество! Кто утешит нас, кто возвеселит?
— И можем ли мы ругать, хулить, затаптывать, прогонять, избивать, отталкивать, подвергать осмеянию, осуждать, проклинать то, что было — и вот ушло безвозвратно, и чего больше не будет?! Горе! Горе!
Жаловался Книжник брату — а что мог ответить Строитель, чем утешить? Ничем он не мог его утешить. И защемило его суровое сердце, ощутил и он небывалую тоску, такую, что чуть было не вскрикнул от боли!
— Горе! Горе нам! — сокрушался Книжник. — Словно очнулся я — да поздно! Проснулся сейчас — да что в этом толку?! Как вернуть, где найти? Никак не вернуть! Нигде не найти!..
И, горько рыдая, ушел от потрясенного брата. Тот не стал ни останавливать его, ни предлагать ему денег или пищи — незачем было предлагать, без толку было останавливать — остался Строитель. На пороге своего пустого жилища.
А Книжник теперь уже не мог жить так, как жил. Он пребывал в постоянном ужасе. Однажды ночью, после короткого забытья очнулся весь в испарине — и почувствовал: грудь его разрывается, сердце готово выскочить из горла — вот как оно билось и вырывалось! И он поднялся, чтобы не умереть и, повинуясь своему окончательно нахлынувшему безумию, оделся. Повсюду возле него были книги, но они сказали все, что могли: и что они могли сказать ему сейчас, чем утешить? И он не мог обвинить их за оставшуюся недосказанность! Торопливо он попрощался со своей квартиркой: так мог прощаться только безумный — говорил всему тому, что оставлял «спасибо» и кланялся книжным полкам. Он побежал из своего временного пристанища, оставив жизни, которые были и которых не было. И побежал, побежал Книжник — поначалу по лестницам, а затем по улицам, и город тлел всеми своими фонарями за его спиной, всеми своими миллиардами окон. Едва проглядывались в том осеннем ночном тумане фонари и окна, весь мир был в том тумане. То был странный, фантастический, волшебный туман, который скрыл от него, спешащего, выбивающегося из сил, все и вся!
Ноги сами несли Книжника на вокзал, и давно он уже должен был погибнуть от разрыва жалкого, больного сердца, но не погибал — и бежал, бежал, а затем ехал все то провалившееся время, ни о чем уже не думая, подгоняя себя, боясь окончательно опоздать — да, так оно и было!
И когда поезд привез его и умчался, побежал Книжник по нескончаемой ночной дороге.
Оказался он — посреди родных болот и холмов и по-прежнему торопился — не было во рту его за все эти дни ни капли воды, ни корки хлеба, но не нужно было Книжнику ни воды, ни хлеба. Он вернулся на землю и бежал по ее дорогам! И был вечер, и в вечерней тиши, и в вечернем тумане вдруг послышались ему, спешащему, чьи-то голоса — жалобно звали они его! Словно бы дети стояли по краям дороги и просили приютить и обогреть их. Неведомые, призрачные, стояли они вдоль обочин и провожали его, бегущего, спотыкающегося — воздух был наполнен их тихими голосами — откуда взялись они, не знал Книжник, но он уже ничего не боялся и спешил к единственной цели.
И коровы выступили из ночного тумана: они были прозрачны, как облака, слышались звуки их колокольчиков — откуда и они появились, Книжник не знал. Повсюду уже слышались детские голоса, и отзывались на них печально коровьи колокольцы! Бежал Книжник — и все вокруг него наполнилось голосами, мычанием, собачьим поскуливанием, и услышал он — тарахтит где-то рядом знакомый трактор! Но не было в этом зове, в мычании и поскуливании знакомого хохота, не услышал он рева гармоники!
Закончился тысячеверстный путь: глубокой ночью, хватаясь за услужливые ветви разросшегося кустарника, вскарабкался Книжник на холм. И оказавшись в саду, боялся даже взглянуть на отцовскую избу, страшась тления в ней. Но его встречал прежний здоровый сосновый запах. Бревна сочили смолу, и ступени крыльца, свежие и чистые, были вымыты пробежавшим дождем. И крыша блестела под чистым, вымытым месяцем, и ничего не сделалось ее дранке. Книжник бросился в сени, с радостным ужасом предчувствуя, что встретит сейчас богохульного батьку, распахнул дверь со всей оставшейся своей силой, зная — ничему он сейчас не удивится и не испугается.
И остановился на пороге. Светлела горница; светлел дощатый пол, месяц вовсю разошелся и играл своим радостным светом, и ветер свободно проникал сквозь окна. Сидела в избе женщина — Книжник сразу узнал немую. Она заждалась его здесь — огромные глаза радостно взглянули на Книжника. Под платьем дрожали ее истосковавшиеся сосцы.
Вовремя они спустились с крыльца! Вовремя оставили таинственный этот дом, который хранил в себе детство Книжника и детство его братьев: все произошло вовремя, потому что раздался подземный гул. Этот гул разбудил весь холм, и задрожала земля под их ногами, какие-то неведомые большие птицы, дремавшие на ветвях яблонь, тяжело взмахивая крыльями, поднялись в ночное небо. И с замиранием сердца услышал Книжник, как изба выворачивается из земли всеми своими корнями, точно выкорчевываемое дерево — треск и шум пошел по холму. Словно завороженные смотрели немая и Книжник на чудо! Дрогнула изба от крыши до основания, словно живая, вздохнула, и стало слышно, как упала чердачная лестница — свалилась последняя тяжесть: началось вознесение дома!
Выворотившись всеми бревнами из земли, изба поднималась, медленно, а затем все быстрее и быстрее. Яблони зашатались и зашелестели, провожая ее. Возносился дом на глазах повергнутого на землю Книжника, уплывая в настоящую бездну, и месяц весело закачался, освещая ему дорогу.
И опрокинулось небо в глазах Книжника, и восстали великие горы детства — все выше к ним поднимался Безумцев дом!
Далекие зарницы освещали пустые его окна, и струился невиданный прежде свет месяца, нимбом окружая поднимающуюся избу, и видел Книжник, как открылась и закачалась ее дверь — но пропасть уже оборвалась за открывшейся дверью, и пропасть эта между ним, распростершимся в саду, и избой все увеличивалась.
И было слышно, как стены обвивал тугой воздух, и дом гудел, словно гармоника, всеми своими стенами.
Таков был неведомый знак!
И Книжник зарыдал, не зная, куда ушел отец их! И то безнадежно оплакивал, что не дано никогда понять ни ему, ни братьям, ни любому родившемуся и мучавшемуся человеку. Плакал, чувствуя свою немощность, и был бессилен даже ненамного, даже хоть на чуть-чуть ослабить свою великую боль.
1
Шли три странника. Показалась одна деревня. Там, в крайней избе, бедной и запущенной, гулящая девка родила сына. Явились к девке подруги, и был в той избе дым коромыслом — младенец же лежал на столе кое-как спеленутый, ему обмазали губы вином да пивом, приговаривая:
— Знай с рождения веселое зелье! В груди твоей матки не молоко должно быть, а пиво с вином!
И смеялись пьяные блудницы:
— Сызмальства привыкай к нашей жизни!
Младенец отплевывался к плакал, требуя материнского молока.
Сказал тогда один странник его матери:
— Не Алексеем ли намереваешься наречь своего сына?
Та смеялась:
— Как узнал ты? Уж точно, Алешкою, как зовут нашего кривого кабатчика.
И сказал другой странник, поглядев на младенчика:
— Не быть ему кабацким гулякой, не быть безродным теребнем. Не цветок ли он на унавоженной почве? Праведник вырастет в вертепе!
Мать и ее подруги со смеху покатывались:
— Ах, быть ему праведником!
Третий странник попросил:
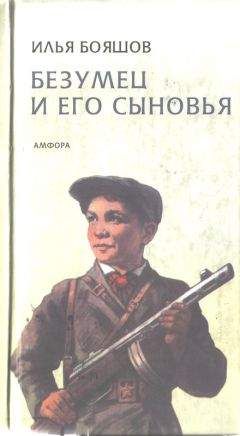
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)



