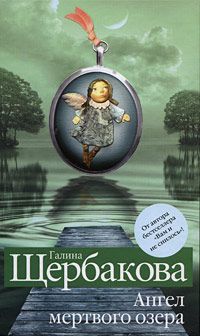Он читает навскидку, как и я. И тормозит там же, где тормозила я. Милый Коля, родная душа. Очень осторожно, даже, скорей, деликатно, он спрашивает о Ляне. Просит сообщить ей, что осел и имеет телефон, как все белые люди.
— Почему же ты ей не позвонишь? — ну разве это не естественный вопрос?
— Нет навыка, — отвечает он. — Я ещё не привык, что телефон — средство общения. Мне звонят соседи, когда нужно уколоть бабушку, хотя им проще стукнуть в дверь.
— Но она же не позвонит первая, — говорю я ему.
— Я знаю. Не снизойдет…
— Я буду звонить! Я! — кричу я, перебивая его. Я ведь знаю, что может последовать за этим «не снизойдет». Он обидит Ляну, я обижусь на него, и он, теперь устроенный, может больше не прийти, у него ведь теперь соседи, которым позволительно стукнуть в дверь.
— «Дорогого покойника посыпали укропом и перчиком», — читает Коля. Это, конечно, Воннегут, его черный юмор. Вы Сорокина читаете?
— Не понимаю глагола. Что значит «…ете»? Он что, Библия, «Война и мир»? Я читала. Он талантливо отвратителен, он…
— Нет, — сказал Коля. — Я просто в связи с покойником с укропом. Мне он нравится. Он громкое восклицание, что Бен — есть. Понимаете?
— Почти каждая книга восклицает.
— Ну уж…
Мы препираемся легко и душевно.
Мы ушли от Ляны. Потом мы собираем чемодан, и я вижу, что он кладет туда тетрадку. Разве я отдала её ему? Но получилось так естественно вернуть её на место, что я только вздохнула, дивясь простоте некоторых решений, над которыми бьешься-бьешься, а всего ничего — надо сложить все вместе.
Мысленно я его провожаю. Вижу, как сгибается его тонкая фигура под чужой тяжестью. Но ведь это тяжесть чужой несчастливой судьбы, кричу я себе, как же я смела её отдать? Я не могла дождаться времени, когда уже стоило позвонить. Он взял трубку сразу.
— Только что вошел. — Он тяжело дышал.
— Коля! — говорю я. — Коля! — Как я могу сказать эту свою мысль человеку, которому сама отдала чужой груз? — У тебя-то хоть есть какие никакие полки или шкаф, куда это все поставить? Я как-то не подумала об этом сразу.
Почему-то мне кажется, что он понял про меня все и тихонечко про себя смеется.
Но он смеялся не про себя.
— Во-первых, у меня этажерка. Вы ещё помните, что это такое? Я её взял с помойки. Она не антикварная, просто для книг. Вымыл, такая прелесть, ей лет сто… Все хорошо встанет. Галина Николаева вернется на ней в свое время и утешится.
— С Воннегутом?
— Ну, нет! — сказал Коля. — Воннегута я положу на стол. Рядом с сахарницей и солью. И буду его читать, пия чай и вкушая хлеб с солью.
— А другого стола у тебя нет?
— А зачем? — смеется Коля. — Это вы пишете, а я думаю. А думать рядом с солонкой — самое то. Или?..
— То, то, — смеюсь я. — Но мне немного не по себе.
— Бросьте, — отвечает Коля. — Книги — это книги. У них есть судьба, есть карма, кто ж спорит? Но я надеюсь, что мы потягаемся. Ваша покойница пусть не беспокоится. Я буду дописывать её тетрадку. И если у вас окажутся книги на выброс…
— То я теперь знаю твой номер телефона.
Так случилось, что Коля не рассказал Зеен, зачем к ней пришел. Конечно, поверхностно — оставить телефон и чтоб тот таким образом оказался у Ляны. Сама не позвонит — думать нечего, но все-таки не удивится, будет готова, когда позвонит он. Но не это главное. Главное — Пятый, один из товарищей по теплой трубе в одном из переулков подземелья. Он так и представился: «Пятый».
— А почему не шестой? — спросил Коля.
— Потому что Пятый, — ответил парень. — На этом месте, где сижу, я пятый.
— А на другом?
— На другом, может, и сто двадцать пятый, и тысячный, но я закрепил за собой пятый номер. А ты будешь восьмой.
— Я Коля, — ответил Коля. — Коля Последних.
— Не воображай. Последних не будет, ибо несть нам числа.
Так и сцепились языками. Человек-номер и Коля, у которого, получалось, нет номера. Пятый был забавный, слегка сумасшедший, слегка притворяшка, у него где-то (неизвестно где) были семья и полный порядок, было высшее образование и полное отрицание жизни нормалов.
— Ненавижу, — говорил он. — Каждый, это стопроцентно, состоит на семьдесят процентов из брехни, а на тридцать из злобы. Так и живет, вертясь то одним, то другим боком. Соотношение меняется. Иногда под самую маковку одна сплошная ложь, это идейные борцы, истово верующие и всякий наивняк типа тех, кто поверил, что красота может что-то спасти. Их пополняют чуть выросшие дети, которые однажды вдруг застесняются, что, влюбившись, по-прежнему писают и какают. Которые из злобы, с теми яснее. Мы от них бежим, нормалы бегут тоже. Они держава, парень, или государство, кому что нравится, но они убивают, не спрашивая ни мамы, ни Бога. Лжецы охотно переходят в их ряды, потому как жить, понимаешь, хочется. Чем больше стреляющих, тем страшнее страна. Вот почему мы с тобой у этой трубы. Потому что у нормалов надо выбрать, с кем ты. Или живи по лжи, а Александр Исаевич или Иван Денисович или кто там ещё не велят, или иди к тем, кто даст тебе или дубинку, или лопатку, или наган, или бомбу, или яд. Ври или убивай. Всегда так было, всегда так будет. Иногда времена провисают, и тогда все люди скатываются в кучу, но они этого не любят. Человеку надо знать точно, кто он, убийца или лживый приспособленец. Нормалы было очеловечились, но их опять обозначили. И ты, парень, не Последних в наших рядах. Я даю тебе хороший номер — восьмой. Бери, не гребуй. У нас тут в грязи чисто.
Так вот, Коля обнаружил Пятого в морге, обгорелого и утыканного мелким стеклом. Он оказался жертвой очередного взрыва, как и эта женщина, книги которой он принес к себе в дом. Он так мечтал встретиться с Пятым и сказать, что вот он осел, стал нормалом, но не стал ни лжецом, ни убийцей. Он хотел ему это прокричать в лицо: «Это не правило, Пятый! Это не правило!»
Не успел.
Теперь он знает, что ещё до Пятого стеклом утыкало медицинскую сестру, которая любила Воннегута. Значит, Пятый был прав. Злоба соответствует количеству смертей. Нет, этого нельзя сказать милой тетке Зеен. Нельзя. Она типичная нормалка из первой половины, немножко лгунья, немножко идейная, немножко верующая, и до сих пор стесняется, что писает и какает. Но вот связали их эти смерти, эти книжки, столетняя этажерка и девочка на шпильках, которой больше хочется быть выше ростом, чем быть хотя бы снисходительней к «человеку не её круга».
Коля листал Воннегута, макая в соль горбушку бородинского. Кайф, нормалы, кайф! Как же это можно хотеть убивать? Какую внутреннюю поруху надо для этого иметь?
Разве мог он вживе представить человека в серебристо-голубых тонах и с синими, синими глазами, который, глядя на город с высоты, весь истекал не злобой, не ненавистью, а желанием. Он жаждал создать из нелепого людского хаоса некую строгую форму. Он ещё не знал, какую. Но он собирался жить и думать долго, чтоб сделать все раз и навсегда. Он просто чувствовал потребность формы, потому что тоже был человек, как и Коля, и Зеен, и Ляна, и шофер Эдик, и Вареничек, и покойные Вера Разина, Пятый, Иван Иванович и горемыка Варя. Серебристый понимал, как их много, всяких, и у него от такого количества разных, неподдающихся формообразованию людей начиналась абсолютно нормальная медицинская тахикардия. Успеет ли?
И хотя его сердце было проверено в лучших клиниках мира, откуда-то из неведомых глубин молекул и атомов тела возникал в эти минуты страх смерти. Потом, когда все проходило, он даже любил это состояние, потому что мог понять, так сказать, из себя самого великую силу страха человеческой массы, который так ему нужен в главном деле — выпрямления жизни. Надо бы восстановить в «страхе» твердый знак. Богъ, кстати, тоже с твердым знаком.
В отличие от жизни и смерти. Каково?! Каковушечки?!
От радостного холодка этих мыслей начинало дергаться веко. И он прикладывал к глазу сердолик. Веко замирало. И он думал: вот ещё пример, когда твердое легко усмиряет мягкое… За раз…
Он не обратил внимания на птицу, что смотрела на него с подоконника. Он вообще не признавал живность, если она не могла быть пищей. Стук клювом в стекло он принял за ветер, который колышет плохо пригнанные к раме стекла. Но если бы он подошел к окну и посмотрел в острый птичий глаз, так похожий на светло-серый глаз женщины, убитой его волей, он бы увидел в нем себя; как летит незнамо куда его оторванная в тряпье жил голова, как долго кричит она диким голосом, понимая в последний миг отрыва, что ей никогда не обрести другого тела, а потому она улетит туда, куда соберется весь стыд и срам этой земли. Огромная яма будет чвакать и хлюпать, принимая ноги, головы и мошонки, пока не затянется над ней земная кора и не прошьют её крепким швом корни трав и деревьев. Но человек так и не посмотрел на птицу. Он был доволен собой, предвкушая бесконечную улицу своего имени. От душевного вожделения зачесалась коленка. Видя его почесывания, птица улетела. Она ведь была вечно живая, а этот чешущий коленку формообразователь был уже вечно мертв. Пусть не сегодня, но скоро и навсегда.