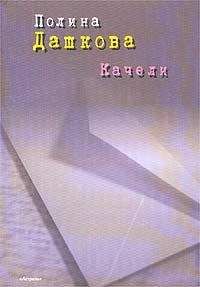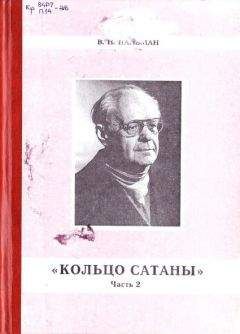Ознакомительная версия.
«Смотрящий» должен жить налегке, не отвлекаться на ерунду и выглядеть солидно, ибо вращаться приходится не только среди своей лихой братвы, но и в высшем свете. Как-никак хозяин края.
Коваль выбил из пачки сигарету и защелкал зажигалкой. Ветер был таким сильным, что фитилек «Зиппо» никак не хотел вспыхивать. Ребристое колесико прокручивалось, на пальце оставался черный след. Коваль сплюнул сквозь зубы, встал спиной к ветру, сложил ладони шалашом. Огонек вздрогнул, затрепетал. Коваль жадно затянулся и выпустил дым в тяжелое сизое небо.
– «Тойоты» должны прийти в пятницу, сто тридцать штук, – донесся до него низкий голос Михо, – надо бы подстраховаться. Чечены хотят встретить в порту.
– Ты лучше скажи, чего они не хотят, суки, – рассеянно, невпопад, отозвался Коваль.
Михо искоса смерил взглядом мощную фигуру «смотрящего», открыл было рот, чтобы сказать: «Не раскисай, братан, прорвемся, нельзя так раскисать. Одни мы здесь остались, не купленные чеченской саранчой. Всех саранча пожрала – ментов, фээсбэшников, таможню. Только мы держимся и будем держаться».
Но промолчал. Все это было уже сто раз переговорено. Коваль сутулил плечи, зябко поеживался и выглядел как-то нехорошо, жалко. Хозяин...
Площадка перед сверкающим новеньким зданием бизнес-центра продувалась насквозь. В огромных зеркальных окнах отражалось мрачное весеннее небо, башни портовых кранов издали выглядели маленькими, как детали детского конструктора. Мир под ветром казался зыбким, нереальным. Земля горела под ногами бледным невидимым огнем.
– Пошли, что ли, в бар, выпьем? – тихо предложил Михо.
Коваль ничего не ответил, продолжал стоять, зажав в зубах потухший окурок. Кожанка не согревала. Он заметил, что в последнее время его постоянно бьет озноб, и вдруг подумал, что было бы значительно теплей, если бы он надел под куртку бронежилет.
«Да, конечно, – усмехнулся он, поймав себя на этой совершенно идиотской мысли, – бронежилет, стальной шлем на голову и в бункер, в бетон, чтоб ни щелочки, ни окошка. В бетон, навсегда, на всю оставшуюся жизнь...»
И тут же перед глазами возникла толстая лоснистая морда в черной щетине, златозубая гаденькая ухмылка.
– Савсэм ты глюпый. Коваль, глюпый и жадыный чилавэк. Сиводыня делиться нэ хочишь, завтра в бетон закатаем. Ныкыто нэ поможит, спрячишься – дастанэм.
Каркающая, хриплая скороговорка, ненавистный гортанный акцент. Коваля тошнило от одного только вида «чехов», то есть чеченцев, которых в последние годы развелось в Приморье столько, что если плюнуть наугад, то обязательно попадешь в какую-нибудь чеченскую морду. Однако попробуй плюнь. Получишь в ответ пулю, кто бы ты ни был – мирный обыватель, мент, моряк, торгаш, распоследняя «шестерка» или хозяин области, достойный уважаемый человек, которого честная братва поставила здесь «смотрящим».
В последние годы «смотреть» приходилось в основном на них, на «чехов». По всему краю шла настоящая война. Было за что воевать. Море, международный порт давали такую сверхприбыль, что, если назвать точные цифры, голова закружится. Здесь все: дешевые японские автомобили, таможенные терминалы, нескончаемый поток товара, тонны деликатесной рыбы. Сюда можно вкладывать деньги, здесь их можно отмывать, превращать в чистое золото и в надежные тайные счета в швейцарских банках.
Чечены дрались за все это счастье не на жизнь, а на смерть. Им удалось купить всех – местную администрацию, бизнесменов, милицию, ФСБ. Только честная братва не поддавалась, держала оборону.
Они уже несколько месяцев по-всякому подъезжали к «смотрящему» Ковалю. Сначала были намеки, люди приходили от них тихие, вежливые, предлагали выгодные варианты. Дипломаты, мать их. Научились. Потом дипломатия кончилась. Пришли в последний раз. Сказали все прямым текстом. Сообщили, что ему, Ковалю, хозяином сверхприбыльного края все равно не быть. И жить осталось считанные дни, раз не хочет делиться. Он послал их от души, крепко послал. Они ушли. А он начал отсчет оставшихся дней. И возненавидел себя за это – за слабость, за ледяной озноб.
Почему-то особенно бесило, что для последнего разговора пришел к нему не равный, не авторитет. Желая особенно больно оскорбить, «чехи» прислали к нему гнусную «шестерку», жирного Сайда, которому по рангу не положено было у честного вора даже ботинки почистить. Стоило Ковалю мигнуть своим ребятам, и толстая щетинистая морда Сайда застыла бы навек в своем золотом оскале. Но ведь не мигнул, стерпел. И не мог себе простить этого...
Ветер гудел в ушах. Михо стоял рядом, щурился, курил и говорил о важном, о рыбе, о японских «тойотах», о делах в портовой таможне. У него болели глаза, от ветра выступали слезы. Ветер нес ледяную соленую пыль, и соль моря смешивалась с солью слез. Он подумал, что надо носить темные очки. Коваль свой, он знает, что у Михо глаза больные, а кто-нибудь чужой заметит, решит, будто Михо плачет, как баба.
– Слушай, ты что, в натуре?! – шмыгнув носом, произнес он бодрым голосом и хлопнул Коваля по сутулой кожаной спине. – Да мы их, козлов черножопых, та-ак поимеем, что мало не покажется. Анекдот хочешь?
Коваль вяло кивнул.
– Сидят два фраерка в кабаке за разными столами. Один спокойно сидит, а другой все под стол смотрит. Ну, тому, второму, интересно стало, чего там у соседа под столом, в натуре? Заглядывает он и видит теннисный корт. Настоящий, только маленький. Все, как положено – поле, сетка, человечки с ракетками бегают, мячик летает. Он спрашивает: слышь, мужик, это у тебя что? А тот говорит: да я, понимаешь, джинна себе купил по дешевке на распродаже. Любые желания исполняет. Что хочешь проси. Этот ему: слушай, мужик, а можно я попрошу? – Да на здоровье! Только громче проси, он глухой...
В зеркальном стекле проплыло отражение бронированного черного джипа. Михо замолчал на секунду. Ему показалось, что именно эту тачку он уже сегодня видел. Однако его больные, воспаленные глаза могли обознаться, перепутать.
– Ну и вот, – продолжал он еще бодрей, – фраерок подумал и говорит: хочу десять миллионов баксов! Вдруг гром, трах-пах, начинают с потолка сыпаться факсовые аппараты. Фраерок ничего не понимает, а хозяин джинна ему говорит: я ж тебя предупреждал, он глухой. Кричать надо было громче. Я ведь просил для себя не теннис размером в двадцать сантиметров...
Тонкие губы Коваля растянулись в улыбке. Михо тоже заулыбался, ему нравился этот анекдот, хотя он слышал его и рассказывал сам раз десять. Зеркальный призрак черного джипа проплыл и растворился в соленом тумане. Что-то тихо хлопнуло, словно пробка вылетела из бутылки с шампанским. Михо удивился, что Коваль смеется беззвучно и при этом странно, расслабленно оседает, валится на влажную панель.
– Ты что, братан? – успел произнести Михо и через долю секунды подхватил Коваля уже мертвого, с застывшей навек полуулыбкой, полугримасой.
* * *
Мальчишка-афганец выскочил внезапно, как черт из рукомойника. Маленький, чумазый чертенок лет четырнадцати. Огромные, блестящие, как черные вишни, глаза. Драный засаленный халат с чужого, взрослого плеча. Из широких рукавов торчат худые, как ветки, грязные ручонки. И в ручонках этих гранатомет.
БТР не мог развернуться в узком проеме между саманными домами, не мог вот так, сразу, дать задний ход. Ребенок держал тяжеленный гранатомет вполне по-взрослому и скалил крупные белые зубы, улыбался, смеялся над четырьмя русскими солдатами, которых намерен был уничтожить через секунду. Кирилл успел подумать, что стрелять это дитятко умеет отлично...
Потом многие годы ему снилось, как тощая фигурка в драной хламиде падает в горячую пыль. На самом деле все это длилось не больше сорока секунд, но во сне почему-то тянулось бесконечно. В ушах сухо трещала автоматная очередь. Ребенок ронял тяжелое орудие и падал мучительно медленно. Раскаленный воздух дрожал и слоился, жестокое афганское солнце било в лицо, отражалось в застывших глазах, огромных, черных, как вишни.
Кирилл успел выстрелить раньше на долю секунды. Он всего лишь успел выстрелить. В БТРе, кроме него, было еще трое. Гранатомет разнес бы в клочья всех четверых. Война, Афган, кровь, звериные законы. Кому дано право судить?
* * *
Артур Иванович Шпон считал себя не просто интеллигентным человеком, а настоящим профессором, доктором психологии и прирожденным дипломатом. При иных обстоятельствах он мог бы стать послом в какой-нибудь культурной европейской стране, министром, тайным советником президента либо в крайнем случае мог читать за большие деньги умные лекции где-нибудь в Оксфорде. Но родители Артура Ивановича были людьми бедными, необразованными, пьющими, а если точнее, из родителей была у него только мать, уборщица портового ресторана, тихая, грязная, с вечно красным носом и жалобными мутными глазами.
Артур еще в детстве сочинил для себя совсем другую семью. Напевно, со слезой в голосе он рассказывал всем любопытствующим, что мама у него была киноактрисой неземной красоты, а отец – летчиком-испытателем неземной отваги. Оба трагически погибли во цвете лет, когда он, Артурчик, был еще в пеленках, и усыновила его бедная женщина, уборщица Клавдия.
Ознакомительная версия.