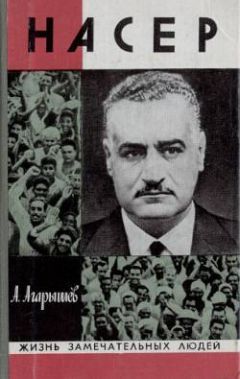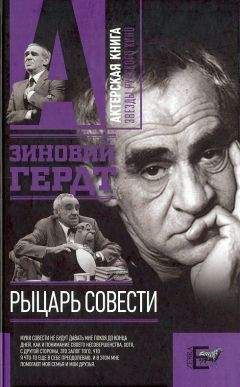Скотт плотно надвинул на лоб фуражку:
— Вы уж простите, что я спрашиваю, генерал… Не для этой ли операции мы намечали трассу, когда погиб Бентинк?
— А? Тогда? Нет! Боюсь, что от той операции нам придется отказаться.
— Понятно.
Скотт отдал честь. Но Уоррен задержал его еще на мгновение, и Скотт вдруг заметил, что Уоррен чуть-чуть улыбается, — он едва было не открыл перед ним своих границ — насколько, конечно, это было в его силах. Ему нравился Скотт, а тот в свою очередь чувствовал, что и ему нравится Уоррен. Но взаимную симпатию пересиливало смущение. Скотт отворил дверь. Уединение было нарушено, их могли увидеть, и Уоррен так и вернулся на свое место к столу, ничего больше не сказав. Скотт колебался: его разбирало желание взломать свои собственные границы, открыть свое сердце этому застенчивому человеку. Но он услышал взволнованный голос Гамаля: «К кому же влечет вас чувство родства, капитан?» И свой ответ: «Ни к кому… Это чувство ушло, оно мертво, Гамаль».
Когда Куотермейн сказал ему, что Атыя так и не появился в Аббасии, чтобы пройти обязательное обучение в стрельбе из 42-миллиметровой пушки, Скотт отправился в кирпичный домик проверить, как там дела. В доме было темно, его обитатели плакали — дряхлый старик, который так самозабвенно воспитывал своих малолетних детей, был, по-видимому, при смерти.
Ни один доктор в Каире не поедет в такой район и не станет лечить такую семью, но Скотт уговорил военного врача из госпиталя в Гелиополисе нарушить неписаный закон и осмотреть больного египтянина. Доктор был беженцем из Югославии, добровольно вступившим в английскую армию; он пошел со Скоттом потому, что на него этот закон не распространялся; он был чисто английским, этот закон, а доктора долго убеждали в том, что только англичанин способен уважать законы. Вот он и отправился со Скоттом печально и безропотно, чувствуя себя таким чужим в этом царстве сурового английского догматизма.
Он осмотрел лежавшего на койке Абду Эффенди и вышел с Атыей в гостиную, где их ждал Скотт.
— Они сами его погубили, — сказал Скотту врач.
— В каком смысле? — удивился Скотт. Атыя крепился, чтобы не выйти из себя.
— У него диабет. И на спине образовалась большая язва. Всякое лечение диабетика, даже простое вскрытие нарыва, должно производиться под наблюдением врача. А они мазали его какой-то мазью. Теперь болячка загноилась.
— Ни один врач не хотел сюда идти, — объяснил ему Скотт.
Югослав пожал плечами и прищелкнул языком — здешние нравы были ему непонятны.
— А что же теперь делать? — спросил его Скотт.
— Его надо отправить в больницу, чтобы выпустить гной, — сказал югослав. — И поскорее. Сегодня же, не то…
Скотт знал, что ни один армейский госпиталь не примет старика ни под каким видом, и даже не стал просить югослава его устроить; однако врач и сам сказал, что всякие хлопоты безнадежны.
— Его придется отправить в египетскую больницу. А я тут вам ничем помочь не могу.
— Мы поместим его в Каср-эль-Айни[22], — сказал Атыя. — Мы можем отвезти его сами, или понадобится санитарная машина?
— Пока вы станете искать санитарную машину, будет уже поздно, — ответил югослав.
— Ну что ж, — сказал Скотт. — Мы отвезем его сами.
— Но сначала отправьте меня на работу, — попросил югослав. — Я на дежурстве.
Скотт попросил Атыю подождать и отвез врача в госпиталь на «виллисе» Куотермейна.
— Как вы думаете, есть у старика какая-нибудь надежда выкарабкаться? — спросил он врача по дороге.
Тот снова пожал плечами:
— Это вам может сказать только хирург. Ему необходим инсулин. Родные понемножку давали ему сахар, видимо жалея его, вот отчего образовалась болячка. Теперь у него сахар в крови. Может, дело и безнадежно. Не знаю. Старик-то ведь хилый…
Когда Скотт стал его благодарить, врач лишь беспомощно покачал головой; он проводил «виллис» взглядом, и ему стало грустно. На минуту югославу вдруг показалось, что он не совсем на чужбине.
Атыя ждал Скотта у двери:
— Я им сказал, что если они будут причитать, когда мы повезем его в больницу, я их поколочу.
Роза и суданка-прислужница Еррофа нарядили старика в самый лучший костюм, и хотя они встретили Скотта спокойно, поблагодарили его и напоили чаем, обычай требовал, чтобы они поплакали, когда старик покидал свой дом. Дети играли на дворе, а когда они попытались войти в дом, Атыя выгнал их вон.
Абду Эффенди лежал на тахте, опустив обвислый подбородок на раздутую водянкой грудь. Он подержал Скотта за руку и, не глядя, кивнул: старик не понимал, что с ним происходит. Скотт и Атыя погрузили его в «виллис»; Атыя поддерживал отца сзади. Скотт сел за руль, а женщины громко запричитали — видно, Атые не так легко было выиграть битву с исконными обычаями. Когда они подъехали к больнице и отыскали врача, Абду Эффенди был уже без сознания.
Пока Скотт разъезжал на «виллисе», Куотермейн одолжил мотоцикл и отыскал в шифровальном отделе Люсиль Пикеринг.
— Вот хорошо, что вы пришли, Куорти! — сказала она. — Я вас целый век не видала.
— Вы заняты? — спросил он.
— А что?
— Можете выйти на полчасика?
— Конечно могу, а что? Какие-нибудь неприятности?
— Да, вроде того. Мне надо с вами поговорить.
— Ой, как страшно! — Она предупредила сержанта шифровального отдела, который почтительно вытянулся перед ней: — Я уйду на полчаса по важному делу.
Поездка на мотоцикле показалась ей очень забавной.
Она настояла на том, чтобы сесть в седло, позади Куотермейна, и по дороге махала всем мало-мальски знакомым людям. Куотермейн привез ее в «Гроппи», где швейцарское искусство приготовления сладостей и мороженого достигло совершенства.
Каирские дамы умели по достоинству оценить мастерство швейцарского кондитера.
— Что вам заказать? — спросил Куотермейн, изучая две страницы меню, исписанного названиями различных frappe[23], coupes[24], bombes[25], сэндвичей, пива, кофе, чая, пирожных и закусок.
— Пиво.
— Это в угоду мне? — спросил он ее с ехидством. — Ну ладно. Я возьму кофе по-венски, миндальное мороженое и к нему порцию взбитых сливок.
— Господи, Куорти!
Сафраги[26] ушел, взяв заказ, и они дожидались его, облокотясь на серый мраморный столик.
— Вы ведь лучший друг бедноты, — сказала ему Люси кокетливо, — неплохое же вы нашли себе пристанище!
— Лучший друг бедного человека — собака.
— Зачем так искажать мои слова?
— Разве это не так? — спросил он, разглаживая пальцами густые усы. — Правда, мы знаем, что лучший друг бедноты — это вы. Помните, как вы поджидали нас в Мене с ящиком апельсинов?
— Ну хорошо. Не будем говорить друг другу колкости.
— Что ж, не будем.
— Почему вы не зовете меня Люси или хотя бы миссис Пикеринг? Вы никогда ко мне не обращаетесь прямо. Всегда проглатываете мое имя, словно оно становится у вас поперек горла.
— Это от смущения. Я и на самом деле не решаюсь произнести ваше имя.
— Перестаньте болтать ерунду, Куорти. Терпеть этого не могу.
— И я тоже. Противно, правда?
— Вы хотите меня разозлить?
— Вот вам ваше пиво, — сказал он. — Вы уверены, что вам не хочется со мной поменяться? Никогда не видел, чтобы вы пили пиво. Небось, думали, что я из тех, кто его дует целыми днями? Верно. Я выпью пиво, а вы берите себе кофе по-венски. — И он пододвинул ей кофе.
— О чем вы хотели со мной поговорить? — спросила Люси. Она старалась держаться с ним как можно проще, чтобы преодолеть то чувство раздражения, какое они всегда вызывали друг у друга.
— О Скотте.
— Да? А почему со мной?
— Потому что вы теперь имеете на него влияние.
— Ну что ж, давайте. А что с ним происходит?.
— Беда в том, что вы, конечно, можете ему помочь и повлиять на него в хорошую сторону, но с тем же успехом вы можете забрать его в лапы и погубить.
— Бедный Скотти. Такой уж он дуралей.
— К черту!! — взорвался вдруг Куотермейн. — Давайте считать, что мы квиты, и подумаем лучше, как нам быть. Неужели я должен вам рассказывать, в каком положении он находится? Да и все мы тоже. А вы лучше меня знаете, что он об этом думает.
Выиграв первую атаку, она как будто смягчилась и стала мило хитрить:
— Ей-богу, не знаю. Я давно вас хотела спросить, что собой представлял его друг Мозес? Я ведь никогда его порядком не знала, а Пикеринг мне рассказывал, что это очень душевный, хотя и вспыльчивый парень. Вот уж не могу себе представить, кто отважится откровенничать со Скотти!
Куотермейн пожал плечами:
— У Мозеса для всех была душа нараспашку. А какое это имеет отношение к делу?
— Почему его прозвали Мозесом? Ведь его имя было Броди.
— Из-за кудрявой бороды[27]. Неужели вам Пикеринг ничего не рассказывал?