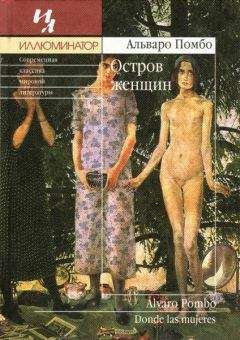То Рождество осталось в памяти как душевное недомогание, от которого не спасали никакие развлечения. Даже долгие, неторопливые разговоры с мамой, раньше всегда дарившие покой, теперь не приносили облегчения, потому что мое недомогание — я поняла это много позже, читая Кьеркегора, — было не чем иным, как тоской, которая до такой степени пронизывает нас самих, все, что мы видим и чувствуем, все предметы и их суть, что любой самый незначительный повод заставляет нас отказаться от сопротивления и принять все как есть. Чем больше я думала об отце и Виолете, чем праздничнее становился наш дом по мере приближения двадцать пятого декабря, двадцать восьмого декабря, дня святого Сильвестра[41], последнего вечера старого года и первого дня нового года, тем невыносимее становилось для меня ее отсутствие. Без нее все остальное тоже словно отсутствовало, хотя я могла поговорить об этом с мамой, пока она приводила в порядок лицо, а такие разговоры всегда очень много для меня значили. Тем не менее из глаз у меня лились слезы, и даже то, что седьмого января Виолета вернется и что она сама ждет этого возвращения, не могло меня утешить. Маму же, по-видимому, беспокоило только одно, и она не раз говорила об этом в те дни: «Ты не должна ни о чем ее спрашивать, просто понимать, любить и верить, что Виолета сделала то, что, по ее мнению, должна была сделать, и если она провела Рождество с отцом, это еще не значит, что она стала меньше любить нас». Однако в этой фразе — иногда более короткой, иногда более длинной — был и другой смысл: «Ты не должна грустить, ни в коем случае, хотя тебе и грустно из-за того, что ее нет. Твоя печаль не должна вызывать ни упреков, ни каких-либо иных чувств, кроме нежности». Но я не могла ни утешиться, ни успокоиться, ни развлекаться, ни смеяться, даже когда Том Билфингер нарядился Санта-Клаусом и, в шутку коверкая испанские слова, поздравлял нас с Рождеством, или когда они с Фернандито исполняли рождественские песенки, которые двадцать восьмого декабря распевают на китобойных судах. А когда фрейлейн Ханна запела, стоя у настоящей елки, наряженной в саду тети Лусии, «О Tannenbaum. О Tannenbaum. Wie treu sind deine Blätter…»[42], я вообще разревелась. До этого Рождества я никогда так не плакала. В нашем маленьком мире все было, как всегда, понятно и даже весело, во всяком случае, ничто не навевало тоску, но я не могла войти в этот мир. Я была вне него, а Виолета — вне меня, в своем мире, возможно, она вспоминала обо мне, я уверена, она часто нас вспоминала, но она была не с нами. Поэт, с которым я познакомилась много лет спустя, чья дружба до сих пор меня радует и делает мне честь, однажды прочитал строки, немедленно вызвавшие в памяти то Рождество и открытку от Виолеты из Сан-Себастьяна с изображением белого отеля и пляжа, совершенно не похожего на наш: «Я никогда не думал, что есть другие города, люди, такие же, как мы, но чужие, зима, совсем другая, но более близкая, и тысячи чувств, тонущих в стакане с водой». Вроде бы мы делали то же самое, что всегда, но это Рождество было иным. Я с грустью смотрела на Руфуса, который спал на диване, вытянувшись во всю длину, с чуть приподнятой головой, с настороженным и немного отрешенным видом пожилого человека, который время от времени, убаюканный семейной беседой, впадает в дремоту, притворяясь, будто внимательно следит за ходом разговора, а веки смежает лишь для того, чтобы лучше слышать и дать отдохнуть глазам. Руфус вносил в обычную, особенно после еды, сонную атмосферу оттенок элегантного удивления от того, что в данный момент кого-то могут интересовать чьи-то суждения или кто-то куда-то может спешить. Сон его действовал умиротворяюще, хотя сам он никогда не позволял себе расслабляться — недаром Руфус был благородным котом, настоящим кабальеро… Вечерние прогулки с тетей Лусией тоже навевали грусть, напоминая о Виолете, хотя они были замечательные, потому что с нами ходили Том Билфингер и Фернандито, а тетя Лусия не заводила печальных и безумных разговоров, как во время наших с ней одиноких странствий. Наоборот, она была в ударе и собиралась в первое утро нового года, как обычно, разжечь на верхушке башни огонь. Том подбрасывал в веселый и яркий словесный костер тети Лусии свои охапки дров. Он рассказывал о своих предках — викингах, до самых глаз завернутых в шкуры; как они приплыли из Северной Скандинавии в Балтийское море, стоя по двое или по трое на носу корабля с ледорубами и длинными пиками, чтобы не застрять и не замерзнуть во льдах; о том, как их судна продвигались вперед, одно за другим, и летом, и зимой, как они основали Кенигсберг и разные другие города, которые сейчас, к сожалению, находятся в руках русских. Эти рассказы были столь же чудесны, сколь и сомнительны, надо думать, с точки зрения истории, однако они совершенно покорили Фернандито и очаровали всех нас. Однако мне запомнились не столько они, сколько зимняя красота острова, черно-зеленого моря и пещер, вырытых самыми мощными волнами, которые ярились внизу под ногами, наполняя грохотом воздух, память, сознание, время, прошлое, будущее, всю нашу жизнь. Вернее, даже не красота природы, а красота того, что можно назвать сиянием времени, сиянием мира; простенькие безымянные цветочки с голубыми лепестками и желтой серединкой, на которые наступаешь, не замечая, мох и прочие тайные проявления зимы — все это заставляло меня вздыхать, потому что напоминало о Виолете. Правда, подобные воспоминания доказывали, что я была неискренна в своих переживаниях и что печаль тех дней не имела под собой никаких оснований, поскольку ничто в природе или наших прогулках не было связано с ней. Виолета на прогулках скучала, особенно на прогулках с тетей Лусией — неторопливых, с внезапными остановками и нелепыми разговорами, что раздражало Виолету, поэтому она называла их «дурацким времяпрепровождением» в противовес «приятному времяпрепровождению» — кроссвордам, ребусам и «Доске загадок» из «Кодорнис»[43], которые скрашивали нам дождливые субботы и воскресенья. Я стала ужасной плаксой, хотя и старалась скрыть это, и вот однажды в январе, за пару дней до возвращения Виолеты, приехавшей лишь восьмого, Том застал меня в гостиной башни, где я ждала остальных. Он был в натянутой до ушей кепке и невысоких сапогах на рифленой резиновой подошве, чтобы не скользили. Я не видела и не слышала, как он вошел, и заметила его, только когда он сел рядом со мной на диван и сказал: «Don't be sad, my pretty. It will pass the sorrow…»[44] Я отвернулась, не желая показывать свои слезы, и он добавил: «Boys are just stupid. Don't cry»[45], так как думал, что я плачу из-за мальчика, чего я вообще никогда не делала, ни тогда, ни потом. «Это совсем не то, Том, — сказала я, — мне бы радоваться, что Виолета сейчас со своим отцом, или с моим отцом, потому что она его любит, а я не радуюсь, потому что ее здесь нет. Мне грустно, хотя я не хочу грустить, но я ничего не могу с этим поделать и не могу чувствовать то, что должна».
~~~
Мне повезло, что Том застал меня плачущей: благодаря его утешениям и моему желанию утешиться ими я вынырнула из своей печали наружу, к его ласковым английским фразам. Том заставил меня почувствовать себя lovely и pretty[46], и я действительно похорошела и старалась ему понравиться. Это мелкое событие изменило мое настроение и переключило внимание на Тома, чье присутствие здесь значило гораздо больше того, что Виолета провела пятнадцать дней со своим отцом. Когда тетя Лусия спустилась в гостиную и я увидела их с Томом вместе, я поняла, что до этого мгновения не воспринимала остальных — если вообще воспринимала — вне своих чувств и желаний. Я не могла без грусти думать о Виолете (то есть все время прикидывала, где бы она могла быть и что делала в тот или иной момент) или смотреть на Тома иначе, чем на приложение к тете Лусии, будто ни на что другое он не был годен. Вдруг я заметила, что Том похудел, весь как-то уменьшился, постарел, а на побледневшем лице появились морщины. Рядом с ним и тетя Лусия выглядела постаревшей и хрупкой, менее склонной к авантюрам и не столь уверенной в себе; казалось, она стала больше соответствовать тем бредовым монологам, которые произносила во время наших прогулок. А еще я заметила, как Том тянется к тете Лусии, как он склоняется над ней, будто находится здесь только для того, чтобы заботиться о ней и защищать от себя самой. Странно, но именно его заботливость впервые помогла мне увидеть в нем человека, независимого от тети Лусии и тех чувств, которые я механически связывала с ней. Осознание всего этого, как бы тривиально это ни звучало, было подобно вспышке или проникновению на огромную неизведанную территорию, что позволило мне отвлечься от сестры и тревог, вызванных ее отсутствием, и перевести Тома и тетю Лусию в разряд нерешенных вопросов, извлечь их из того закупоренного уголка сознания, куда я помещала людей, чувства и вещи, которые считала сданными в архив. Конечно, это было до смешного мало, но гораздо больше, чем я сделала для Тома и тети Лусии до сих пор. Фокус моего внимания стремительно сместился, а вслед за ним изменилось и настроение.