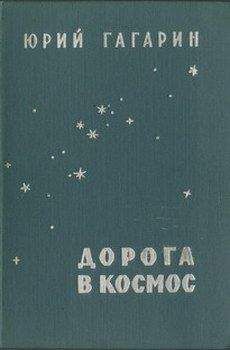Вечером накануне плюс все сегодняшнее утро Эстер размышляла о том, что надеть, примеряла и то, и это, раз двадцать приходила к окончательному решению и столько же раз меняла его. Затем поняла, что дело даже не в удручающем отсутствии правильной одежды, а в никудышной прическе и два часа простояла с феном перед зеркалом, прилаживая волосы то так, то эдак. Наконец Шош, доселе насмешливо молчавшая, не выдержала и высказалась в том духе, что тот, ради кого она так старается, примет ее с одинаковым восторгом в любой одежде и прическе, а если без того и другого, так и вовсе на ура.
Эстер вспылила, хотя причины для этого не было никакой, накричала на подругу, но затем поняла, что кричит, в общем-то, не на Шош, а на саму себя, на свою неожиданную растерянность, на досадное неумение справиться с чем-то… но с чем? Вот именно: она даже не слишком понимала, с чем и какого черта… хотя, на самом-то деле все она понимала, зачем врать-то? Понимала все, в том числе и то, что ничего хорошего из этого сумасшествия получиться в принципе не может, а потому хватит порхать, встань уже на твердую землю обеими ногами. Благо, есть чем встать.
В итоге, расплакавшись и из-за этого еще больше рассердившись, она твердо решила никуда не ходить, сунула под кран голову с уже готовой завивкой, переоделась в обычные свои джинсы и футболку и упала на диван с книгой, которую читала примерно три четверти часа, не сходя с одного и того же абзаца и даже, возможно, предложения. Потом, когда радио укоризненно пропикало полдень, Эстер попробовала еще раз мысленно повторить всю совокупность правильных резонов, по которым не следует никуда идти.
Для удобства запоминания резоны были заранее разбиты на пункты. Она как раз безуспешно припоминала самый первый, когда вошедшая в комнату Шош сказала, что давно бы так, ведь дураку ясно, что ничего хорошего из этого сумасшествия получиться в принципе не может. В ответ на это совершенно справедливое замечание, Эстер отложила книжку, встала с дивана, посетовала на свою склонность к опозданиям и напомнила подруге, что вернется часа через полтора, как всегда после урока, привет!
На коротком пути до аминого дома она старалась не думать вообще, чтобы не позориться перед Шош внезапным возвращением: решила так решила, точка. Но дурацкие, плохие мысли все равно катались в голове, стукаясь друг об дружку, звонкие и неразличимые одна от другой, как биллиардные шары, и это выглядело так нелепо, так глупо, так неудобно… Полностью они пропали лишь потом, когда завыла сирена и Эстер, взбежав по лестнице, увидела его перед окном на фоне дымного ракетного шлейфа. Его стриженую голову и тяжелые плечи, и губы, неслышно отсчитывающие секунды полета, и то, как смешно он вывернул шею, отслеживая траекторию, и руки с длинными сильными пальцами на подлокотниках кресла. С теми самыми пальцами, которые она до сих пор словно чувствовала на своем затылке.
Потом они честно пытались заниматься статистикой, продолжать привычную игру: разбирать параграф за параграфом, решать примеры, выяснять значение правил, то есть вести себя, как ни в чем не бывало, но уже в этом “как ни в чем не бывало” была заложена такая фундаментальная и вопиющая ложь, что не получалось ровным счетом ничего. Все силы уходили на поддержание видимости, на наблюдение за принюхивающимся локтем, за онемевшим плечом, за глазами, так некстати утыкавшимися то в губы, то в руки, то в грудь, то в шею. Особенно за глазами, которые вдруг превратились из пассивного органа зрения в активную самостоятельную силу. Прежде они просто смотрели, теперь — трогали, гладили, целовали, словно жили сами по себе, и не просто жили, но еще и вели себя с бесстыдной наглостью, абсолютно несвойственной их номинальным господам и владельцам.
Через несколько минут Эстер посмотрела на часы, обнаружила, что уже четверть второго и поразилась этому. Утрата чувства времени свойственна счастливым людям, но весь этот последний, нечувствительно пропавший час был наполнен, скорее, мучениями, нежели счастьем.
— Ой, уже так поздно, — сказала она, из последних сил оттаскивая вконец обнаглевшие глаза от Аминого рта. — Мне нужно идти, а то Шошана будет беспокоиться.
Глаза метнулись в угол, чисто для отвода глаз, и тут же, сделав неожиданный прыжок, вцепились в его руку. Эстер устало вздохнула.
— Да, да, конечно, иди, — отвечал Ами. — Спасибо тебе огромное. До среды?
— До среды.
Она встала, чувствуя облегчение и зная, что теперь-то уж точно ничто не заставит ее вернуться сюда, на этот пыточный станок. Возможно, единственный смысл сегодняшнего визита заключался именно в этом выводе, в этом окончательном понимании, в этом последнем и решающем ответе. А иначе зачем она вообще приходила? В дверях Эстер обернулась. Ами сидел спиной к ней и смотрел в окно, с трудом удерживая в его прямоугольной рамке свои одичавшие глаза, которые, наплевав на все запреты, продолжали рваться к совершенно другим горизонтам.
“Зачем ты вообще сюда приходила? — подумала Эстер. — Зачем? Зачем?”
И вдруг ответ на этот, казавшийся вполне риторическим, вопрос блестнул в ее голове с такой ослепительной ясностью, что она чуть не задохнулась. Зачем? А вот зачем…
Ами скорее почувствовал, чем услышал ее возвращающиеся шаги. Она наклонилась над ним, разом закрыв тяжелой занавесью своих волос весь остальной мир, словно заменила его собой, и это было настоящим подарком, потому что “весь остальной мир” не стоил даже малой ресницы ее приближающихся глаз, наконец-то отпущенных на волю.
Их рты помедлили, прежде чем стать одним ртом, она почувствовала на затылке его руку, и пронзительное, щемящее, чудное чувство вдруг вынырнуло внутри упругим светящимся дельфином и полетело по темным волнам, выпрыгивая из них, ахая в черноту и вновь вылетая на поверхность в ворохе сверкающих брызг. Вот зачем… вот… зачем…
— Мне нужно идти, — сказала она. — Шошана будет беспокоиться.
— Да, да, конечно, — отвечал он. — Ты уже говорила.
Оба улыбнулись и, даже не открывая глаз, почувствовали эту, скорее, общую, чем взаимную улыбку. Глаза отдыхали, обиженно вспоминая прежние обвинения в наглости и бесстыдстве, выглядевшие особенно беспочвенными сейчас, когда выяснилось, что рукам дозволено намного больше.
— Мне нужно идти… уже темнеет. Шошана…
— Переживет твоя Шошана. Оставайся…
— Еще?
— Оставайся навсегда.
Она улыбнулась снова, и он снова почувствовал ее улыбку, но на этот раз улыбка была ее собственной, отдельной, отделившейся. Они еще лежали рядом, но уход уже начался, расставание уже плело перекидной мостик от них вовне, плело из слов, превращающихся в обрывки забытых на время планов, долгов, запретов, обещаний, которые теперь возвращались в виде слов, произнесенных и нет, и плетеный перекидной мостик обрастал броней и камнем, превращаясь в крепостной мост, а где крепость, там и ров, и стены, и башня. Башня с заточенной в ней красавицей.
— Мне нужно идти.
— Иди. Когда?
— Не знаю. Завтра. Не знаю. Мне еще надо это переварить. Прощай.
— Прощай.
Когда Эстер вернулась домой, Шош, свернувшись калачиком на диване, смотрела выпуск новостей. Подняла к подруге глаза, ужаснулась:
— Ты с ума сошла! Что ты наделала?!
— Что такое? — попыталась улыбнуться Эстер.
— Что?! — Шош задергалась, возмущенно выпрастывая ноги из пледа. — Она еще спрашивает “что”!
Ушла на кухню, вернулась с сигаретой.
— А о нем ты подумала? Что с ним станется, когда ты его бросишь?
Эстер принужденно пожала плечами.
— Почему я должна его бросить?
— А почему нет? Назови мне хоть одну причину, по которой из этого сумасшествия может выйти что-нибудь путное! Хоть одну!
— Любовь? — неуверенно предположила Эстер.
— Ну ты и дура! — поразилась Шош. — Тебе ведь уже не шестнадцать, подруга. Тебе двадцать два! Эй!
Она помахала ладонями перед носом Эстер, как это обычно делают, когда требуется вывести человека из ступора.
— Эй! Проснись! Любовь… Марш в ванну, дура. Сначала смой с себя эту свою любовь, а с нею, может, и глупость сойдет. А потом поговорим. Любовь…
Она полезла в буфет за бутылкой. Эстер вздохнула и пошла в ванную. В голове у нее один за другим, в стройной красе своих чеканных формулировок проплывали все сто пятьдесят правильных резонов, по которым ей с самого начала не следовало сегодня ходить на урок статистики. Теперь эти резоны припоминались без всякого труда, так что становилось совершенно непонятно, куда это они все подевались в полдень, когда действительно были нужны позарез.
В баре “Гоа” было пусто, даже за стойкой никого. Сначала Ами хотел позвать хозяев, но потом передумал: ничего не случится, если свой бокал пива он получит на четверть часа позже. Зачем мешать? Может, люди заняты чем-то важным. Например, любовью. Он прикрыл глаза, возвращаясь к событиям сегодняшнего дня. Как это она сказала: “Мне еще надо это переварить”… Хотел бы Ами сказать то же самое о себе. Ведь для того, чтобы переварить, нужно по крайней мере разжевать и проглотить. А он? По зубам ли ему такой огромный кусок счастья? Есть ли у него право затягивать в свою безногую, ущербную жизнь других, полноценных, сильных, всем своим существом принадлежащих норме, стандарту, порядку, установленному здоровым большинством для здорового большинства?