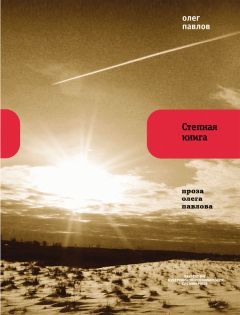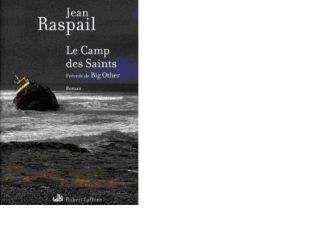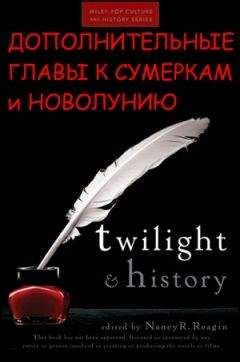Смерть военкора
Редактор, он же корреспондент и корректор дивизионной газеты «На боевом посту» — пожилой капитан с лысиной, которую по настроению ехидно называл то жопой, то прожидью. Представлялся не по-армейски, а как Афанасий Иванович, разрешая так же обращаться к себе и солдатам. Но те за глаза называли его шефом или Лысым. Ему было за сорок. Когда шел зимой по дороге, то обязательно не выдержит и прокатится по раскатанному ледку. Днем он обычно спал дома, а к вечеру приходил, напивался досыта коньяку и тогда начиналась работа над номером, правки да вставки. А из штаба дивизии, верно, смотрели на его светящееся окно и понимали так, что человек днюет и ночует, думая о газете. Он же любил о себе вслух сказать, что, как и Петр Первый, владеет многими специальностями и если терял от выпитого чувство жизни, то выстраивал наборщиков-солдат, муштровал и называл «вшивой интеллигенцией», хотя они ею не были, в смысле интеллигенции, а вшей-то всякий день давили, от нечего делать, разбредясь по разным углам.
Помещение редакции от типографии отделяла фанерная перегородка, за которой и сидел он, Агафонов, все же невидимый и гнетущий для солдат, которые, если это было лето, били мух при открытом окне, тогда как начальник в поте лица работал. Сколько ни проходило через руки наборщиков его больших и маленьких статей, никто не помнил, о чем в них писалось. Запоминалось только, что началом полосных статьей было «полигон встретил солнечной погодой» или наоборот «пасмурной» — по временам года. Своими материалами он заполнял еще и газету округа «Дзержинец», иной раз в этой нормального формата газете выходило сразу несколько его статей, а то и передовица. И вот плодятся по-тараканьи его подписи — «И. Афанасьев», «А. Иванов»… Но все капитаны, хотя мог повысить себя в звании и подписаться «майор Агафонов», но это по праздникам, для души: жвыкнул удало комариком, приятственно поволновался. И еще он давал переписывать статьи наборщикам, на сигареты, чтобы те покупали курево, получив как за себя денежный перевод, и у него не попрошайничали. Когда Агафонов уходил в отпуск или отбывал в командировку, то оставлял много заготовленного впрок материала. Был у него ревностно хранимый блокнот, куда он, разъезжая, записывал столбиком фамилии всех встречных военнослужащих дивизии. И этот блокнот он доверял самому смекалистому наборщику, с наказом, чтобы тот вставлял в заготовки реальных офицеров и солдат, не забывая потом вычеркивать из блокнота уже использованные в газете фамилии.
Мечтой военкора Агафонова было создать книгу о Невском пятачке — о героической обороне Ленинграда. Думал, если создаст, то ему почет будет с уважением и прописка в Ленинграде. Делал он эту книгу так: из разных генеральских мемуаров и выпусков фронтовых газет выкраивал куски, которым сам придавал форму и пропечатывал из раза в раз в своей газете, но книжным форматом. Так на дармовщинку скапливался заветный типографский набор, из которого мечтал он сотворить свой памятник о Ленинградской блокаде.
Но это же была муравьиная работа, которая тянулась уже множество лет. К тому же Агафонов дожидался, когда поумирают военачальники, из мемуаров которых он выкрадывал себе ленинградскую заветную прописку. Когда умер маршал Гречко, к примеру, то капитан встал из-за стола, потянулся и сказал солдату, доложившему эту новость: «Ну и что ж, начальник умер, все мы умрем — и я умру, и ты умрешь.» Агафонов эти годы таскался по округу, по бескрайним заштатным просторам от полка к полку и по гарнизонам, растрачивая свои полжизни, как командировочные. На местах верили, что он напишет о них в газету, но то, что ничего кроме фамилий, после так и не являлось, делало капитана похожим на проверяющего. Наезжая третий, шестой и десятый разы в какой-нибудь гарнизон, давая самому себе задание от редакции, он был встречаем как разъездная инстанция и потом хвастался своим солдатам, вспоминая: «Сила прессы такова, что здесь звания не играют роли. Какой командир полка стал бы с капитаном пить? А вот узнают, кто я, бегут за водкой. Все права у меня!»
Год дивизия завершала большими учениями в степях. Офицеры из штаба скидывались и везли ящиками водку. Ночами охотились в степи на сайгаков, списывая расход боекомплекта на учебные стрельбы, и праздновали одну нескончаемую победу. Агафонов участвовал на правах «прессы» — никаких трат и взносов, зато ел и пил с майорами да полковниками поровну. К исходу учений военкор надорвался и заработал, что грыжу, перешедший из доброкачественного в злокачественный запой. Будто маркитантка, он откочевал в обозе какого-то богатого на водку полка, освещать его боевые будни. Тамошних командиров он через месяц начал уж стеснять, но тронуть его побаивались. Поглядели, что корреспондент не гнушается питаться в солдатской столовой — и успокоились. Ждали, что когда-нибудь уедет сам.
Поселили Агафонова в офицерской общаге, где какое-то время еще наливали уважительно корреспонденту. Когда же Агафонов из доверия вышел, то продал с себя часы, заграничную авторучку, кожаный портфель — и просуществовал с неделю. Порывался он вернуться в Алма-Ату, доделывать «Невский пятачок», но никак не мог. И дело было не в средствах на дорогу, а в жадном, сосущем уж из самого Агафонова, его пиявистом принципе, что у прессы все права. Ему не наливали — он затаивал злость и жаждал до удушья выпить. Шагал в полковую библиотеку, как в свою собственность, изымал с полок какую-нибудь книгу поувесистей, на том основании, что он и сам писатель, где-нибудь по дороге книжную буханку сплавлял и напивался назло этим «вшивым интеллигентам», как стал клеймить и проживающие в общежитии многодетные семьи, а особо ж невзлюбил он вредных, всегда трезвых офицерских жен.
В то время в этот полк наведался проездом еще один работник печати корреспондент из газеты округа, с которой сотрудничал Агафонов. Но окружная газета куда выше и корреспондент рассчитывал на особый прием. Вместо того взбешенный комполка предъявил ему спившегося жалкого капитана да выматерил их обоих от души.
«Вы кто такие есть? Какого ж хрена вам тут всем у меня надо? Да я о вас такое сам напишу! А ну, привести себя в вид… А ну, глянули на меня… А ну, пошли вон…»
На вонючей грязной колымаге свезли их на станцию и ссадили на перрон. Агафонов что-то мямлил. Хотел выпить, но злой молчаливый попутчик не дал ему взаймы даже на пиво.
А спустя месяц в газете округа «Дзержинец» был напечатан крохотный фельетон, где корреспондент описывал кражу и пропитие неким командировочным военкором книжек из одной полковой библиотеки полковой библиотеки — и не осталось помина от уже сброшюрованного частью «Невского пятачка». Пропал и Агафонова след… Но обессмертила военкора его газета… Или так много заготовил он для нее материала впрок, или сама сочилась, будто березовым соком, но с того времени и до сих вы в ней прочтете одно и то же. И являются подписи на бересте газетной бумаги, точно тайнопись всплывает — «И. Афанасьев», «А. Иванов»; а по праздникам нет да жвакнет комариком под носом у начальства «майор Агафонов».
У водочной за шаг и зги не увидать, а на тропе двоим не разойтись, забор — так и плющит, что тиски. Вышка эта — место рисковое и гиблое, только с нее способно водкой торговать. В глуши, на отшибе всех постов и примыкая со стороны зоны к рабочей, а ночами вымирающей, нежилой и нерабочей, пустоши желдорсъема, стояла вышка лагерная десятки лет, целую жизнь. Так что и до Карповича имелись у ней хозяева, и до Карповича служили.
Гроб тоскливый для одного, который год и два втискивается в него и стоит столбиком, отбывая сотни суток срочной своей службы, теремок этот в два аршина поглотить смог столько судеб, что два аршина пустоты уж зияли да дышали как живые раны. Дощатые стенки кругом были изрезаны, расковыряны томившимся тут народом — именами и охвостьями годов. Кто-то делал зарубки дней, а может, так помечалась проданная водка. Но потому как не дозволялось вышкам обрастать памятью и доски строго настрого выскабливались, красились, оставалось только рябое их рыло, да глубокие рубцы, неизгладимые ни скребком, ни краской.
Вот ведь Гаджиев. Этот туркмен вовсю на вышке барыжничал. Жениться хотел. А у них такой обычай, что если старший брат не обзаведется, то младшему жены не дозволять. Старший же брат никак не мог скопить денег, чтобы девку из семьи выкупить, и Гаджиев за двоих выкуп собирал — за себя и за никчемного брата. Службе конец подходил, а денег не доставало на двоих-то. И он выпустил из зоны зека за пятьсот рублей. Зек на воле человека убил, и поймался, а по его показаниям арестовали и Гаджиева.
Туркмена до суда содержали в следственном изоляторе, и от конвойников полковых, какие на этапных перевозках бывали, пришло известие, что Гаджиева в изоляторе за красные погоны урки обабили, а потом, помучив всласть, и повесили.