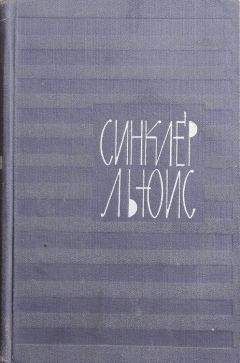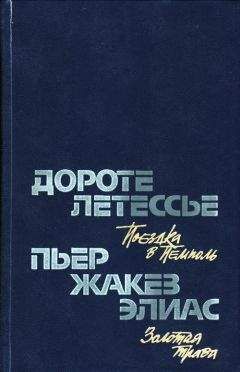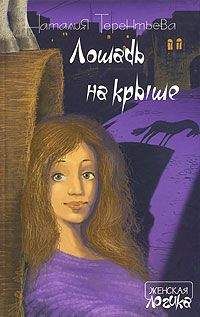Он умолк. Молчал и я — какие уж слова, коли он о Мимозе заговорил. Глядел на него и чувствовал, что краснею. За стенкой лошади били копытами. Он ухватился за лаковую крышку стола, руки поникли, словно ослабевшие крылья орла, глаза — точно остекленели. Дерзкий задира в один миг сделался строг и серьезен. Я разволновался. Вдруг явилась мысль уступить ему Мимозу — вот уж поистине подходящая пара! «Хороша доброта, нечего сказать, собственную подлость прикрыть захотел! А ее любовь? Предать ее?» Я не проронил ни звука.
Все длилось тягостное молчание, наконец боль его, верно, поутихла, он успокоился. Глянув на меня, он произнес:
— Там у меня мешок соевых бобов, цзиней на сто. Возьмешь его, поедите вместе с Мимозой. Столик этот тоже мой — заберешь завтра утром. Мешок я упрятал там, за стогом, ты видел где... Днем не ходи, только ночью, чтоб никто... Понял?
— Я... это...— Принять подарок или отказаться? Но как откажешься? Я понимал, что он добр, что он благороден и великодушен, но мне было стыдно — до каких же пор пробавляться чужими милостями?
Он по-своему понял причину моих колебаний:
— Будь спокоен, не краденое! Вы, грамотеи, не едите такого, знаю. Так вот: еще давно, только приехал сюда, я на брошенной земле бобы посадил, здесь такой земли полно. Осенью и собрал цзиней триста-четыреста. Этот разбойник Се обо всем пронюхал, но не донес — он ничего, с ним можно ладить!
Все они думали обо мне слишком хорошо: ишь какой «благородный», краденого не ест! Уж я-то знал, что вовсе не таков. Не я ли обманул старика торговца на рынке или выманил просяной муки на кухне? А к Мимозе поесть даровой еды разве не ходил? Пока я ловчил, он своим трудом урожай выращивал — вот и вся разница между нами! Так кто же из нас благороднее?
— Что же ты с собой все не заберешь? — спросил я, проникшись искренней заботой.
— Зачем? Куда не приду — без еды не останусь! Вы другое дело — барышня и грамотей...— Он кивнул на дальний угол лежанки и прибавил: — У меня еще вон какой груз!
Тут только я углядел, что сидим мы на голых циновках, а постель свернута в узел и увязана вместе с деревянным сундуком на здешний манер — подхватил на плечо и в путь.
— Прямо сейчас и двинешься? — спросил я.
— А когда же? — Он фыркнул.— Думаешь, лучше белым днем, при ясном солнышке? Я не то, что вы все: у вас прописка, паек, просто так ни шагу не сделаешь. Они думают, буду на них здесь вечно спину гнуть! Пошлют за мной погоню, могут и просто связать. В прошлом... нет, теперь уже в позапрошлом году они уже нескольких беглецов повязали...
— И куда же ты?
— Китай велик! Я много где побывал! — Он ударил себя в грудь и с гордостью произнес: — Знаешь, я ведь со специальностью, да и сила есть, так что примут меня где хочешь. Двинусь к подножию гор, там моя тетка живет. Переберусь через горы — там Внутренняя Монголия, госхозов полно, денег побольше платят. Только об этом никому!
Я кивнул:
— Ладно, молчу. Так и будешь все время бегать? Бригадир говорил, ты уже не раз пускался в бега...
Внезапно он понурился, помрачнел — ему не хотелось меня слушать. Такого отговаривать — пустое дело.
Шумел на печи чайник, лошади печально всхрапывали за стенкой. Мы молчали. Сделалось как-то душно. Хай Сиси допил свой чай. Грохнул кружкой об столик. Казалось, он выпил не чай, а вино: точно во хмелю покачивал головой, щурил глаза. Потом отер рот ладонью. Из груди его рванулась, словно из долгого плена на волю, печальная песня:
В Лянчжоу гулял я с утра до утра,
А вот на лице печаль,
Печаль на лице — как жаль!
Сгубила меня малютка сестра.
Он хлопнул себя по колену и глубоко вздохнул:
— Да, девушки любят молодых!
Мне стало жаль его. Он ведь мог осесть здесь, завести семью, детишек, получить постоянную работу, а вместо этого отправляется опять бродить по свету. И все из-за меня — я порушил его жизнь. И я склонил голову, словно дожидаясь удара.
Опять воцарилось молчание. Потом он снова глубоко вздохнул, тряхнул руками, словно хотел отогнать все горести, как докучливых комаров. Будто хмель прошел, и он приободрился, взял чайник, долил в кружки воды, слегка поерзал и сказал, наклонившись ко мне:
— Слушай, скажи по правде, что это за книга у тебя? Я иной раз там у нее... ну... под окном случайно видел, как ты все читаешь. В детстве и мне приходилось читать древних учителей!
Смотри-ка, Мимозу это ни разу не заинтересовало. Я обрадовался, теперь можно как-то разрядить обстановку. Похлопав ладонью по «Капиталу», я объяснил, что эту книгу не «древний учитель» сочинил, а Маркс, в ней изложены законы развития общества. Зная эти законы, можно смягчить житейские страдания. Ну, как за весной наступает лето, а потом осень и зима — так и законы, в них сосредоточена необходимость.
— Не-об-хо-ди-мость! — пробормотал он на местном диалекте, он пытался постичь значение этого слова.— Не-об-хо-ди-мость! Понимаю, у нас тоже есть похожее, только мы говорим «воля Аллаха».
— Ну, это не совсем то...— Я попытался объяснить, но он перебил меня:
— То, то самое! — махнул рукой и сказал:— Есть «воля Аллаха» — это необходимость, а есть еще... вот не знаю, как назвать... ну, к примеру, я был служкой в мечети, мог выучиться и стать ахуном, а вместо этого мотаюсь по свету — вроде по своей воле...
Его объяснения смутили меня. Кажется, в марксизме это называется «свобода выбора»? Пока я напряженно размышлял, он продолжал свои рассуждения, словно стремился прогнать тоску, и все больше воодушевлялся, но, пожалуй, теперь уже нес одну околесицу.
— Слушай, женись-ка ты на Мимозе! — вдруг сказал он.
Я оцепенел. Мне и в голову не приходило, что я услышу от него что-нибудь подобное.
— Поверь, она хорошая! «Ресторан «Америка» — все это глупая болтовня! Она, чертовка, сообразительная, берет подарки, но себя соблюдает. Женись на ней, правда! Заживете лучше некуда — и ей хорошо!
— Я... я не думал об этом... пока,— лепетал я.
— Не думал! — Он в сердцах стукнул по столику.— Может, считаешь, она тебя, грамотея, недостойна? Слушай, я однажды подглядел, как она моется... все, доложу тебе, при ней!
Я никогда не знал заранее, что он скажет или что сделает. Говорит вроде грубовато, даже бесстыдно, но в словах-то его неподдельная забота. Он, значит, до нее не дотрагивался...
— Ну что? — спросил он.— Надумал? Ты под завязку набит книжной премудростью, а она может и с иглой управляться, и с котлом, и с мотыгой в поле. Если уж кому из вас будет плохо, так это ей!..
Из овчарни снова донеслось блеянье, и он сказал, что уходит. Допили чай, я пристроил ему на плечо пожитки.
— Дотащишь? — забеспокоился я.
— Еще бы! До гор — рукой подать, один шаг, можно сказать! — Он легко повернулся с тяжеленной поклажей, не попрощался, не пожал мне руку, а только велел задуть лампу, притворить дверь да в ясли сена добавить. Протиснулся в узкий дверной проем и растворился в ветреном снежном сумраке ночи.
Я вышел из конюшни. Мир наполняла чистая белизна порхающих снежинок.
Мимоза все еще трудилась в овчарне. И я отправился «домой» спать.
32
Ранним утром я пошел к Мимозе. Она только недавно вернулась из овчарни и как раз заканчивала разделку бараньей головы. На полу расставлены были глиняные тазы, клубился густой пар над котлом, остро пахло свежей бараниной. Эршэ сладко спала на лежанке. Усталая, с выбившимися прядями волос, Мимоза хлопотала среди тазов. Когда я вошел, глаза ее радостно блеснули. Она уже наверняка знала о бегстве Хай Сиси, но не подавала виду; меня это слегка рассердило — неужто моя будущая жена начисто лишена милосердия?!
— А знаешь, что сказал мне Хай Сиси на прощание? — с вызовом спросил я.
— Да не слыхала я ваших разговоров! — Она возмущенно принялась шуровать тазами, но минуту спустя, уже с обычной своей веселостью протянула: — Отку-у-да мне знать?..
— Он уговаривал меня... жениться на тебе! — выпалил я. Едва эти слова сорвались с моего языка, мне тотчас стало понятно, как непохожи они на те романтические, исполненные любви и поэзии речи, которые я готовился произнести, собираясь объясниться с Мимозой.
— Ему-то что за забота!—произнесла она резко, с поразившей меня холодностью, хотя, возможно, и напускной. На секунду мне почудилось, что я ошибся,— она не любит меня, не любит...
Меж тем Мимоза вымыла дочиста один из тазов, водрузила его на глиняную полку и потянулась, расправляя затекшую поясницу.
— Другим за нас решать нечего, о себе я и сама подумать могу! — заявил она решительно.
Так, провалилось, значит, мое сватовство. Едва поманила меня жизнь удачей и счастьем, и враз обернулась опять ко мне своей привычной стороной — жестокой, лишенной поэзии. И все-таки, что значит эта неустанная забота Мимозы обо мне? Любит? А может, просто капризничает, развлекается? Я был как в столбняке, тупо стоял, не понимая: уйти мне, что ли, и еще дверью на прощание хлопнуть или остаться и выяснить все до конца?