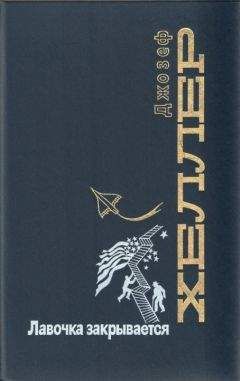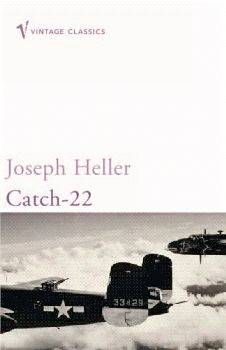Денег у него было больше, чем он мог истратить. Он никогда не верил в трестирование трестов и не видел никакого проку в фондировании фондов. Теперь к нему регулярно наведывался Джон Д. Рокфеллер выпросить десятицентовик или выклянчить разрешение прокатиться бесплатно; искал его благосклонности и Дж. П. Морган, который вручил свою душу Господу, не сомневаясь, что она будет с восторгом принята и обласкана. Почти не имея к существованию средств, не имели они к нему и особых стимулов. Их дети не присылали им ничего. Мистер Тилью мог бы им давно это сказать, часто говорил им мистер Тилью. Без денег жизнь могла быть кошмаром. Мистер Тилью всегда подозревал — для бизнеса всюду найдется место, и он мог бы им давно это сказать, говорил он им.
Он выглядел щеголем, одевался с иголочки, был опрятен и всегда в форме. Его шляпа, его котелок, которым он гордился, висел безукоризненно чистый на крюке вешалки. Теперь он каждый день надевал белую рубаху со стоячим воротничком, широкий, идеально завязанный и аккуратно заправленный под жилетку галстук, а кончики его тонких каштановых усов были обязательно нафабрены.
Его первым большим успехом было чертово колесо в половину размера того, что привлекло его внимание в Чикаго, и он дерзко провозгласил свое — еще не достроенное — самым большим в мире. Он украсил его ослепительными гирляндами из сотен недавно изобретенных мистером Эдисоном лампочек накаливания, и зачарованные посетители были вне себя от восторга.
«Я в жизни не обманул ни одной души, — любил заявлять он, — и не отпустил ни одного простофилю, не обобрав его».
Ему нравились аттракционы, в которых посетители возвращались в ту точку, откуда начинали. Ему казалось, что в природе все — от самого малого до самого грандиозного — движется по кругу и возвращается в свою исходную точку, может быть, для того, чтобы начать все снова. Он находил, что люди смешнее стаи обезьян, и любил разыгрывать их с учетом людских особенностей, ставя в безобидно-неловкие ситуации, которые всем доставляли удовольствие и за которые все готовы были платить: шляпа, сорванная потоком воздуха, или юбка, вздувшаяся вдруг на плечи, двигающиеся полы и складывающиеся лестницы, перепачканная помадой парочка, вернувшаяся на свет из темного туннеля любви и недоумевающая — почему это все, увидев их, трясутся от смеха, и недоумение их длится до тех пор, пока какой-нибудь любитель непристойных шуток не огласит принародно причину всеобщего веселья.
И он по-прежнему владел своим домом. Мистер Тилью жил когда-то на Серф-авеню напротив своего парка аттракционов «Стиплчез»; у него был просторный деревянный дом с ведущей к нему узкой дорожкой и невысокими каменными ступеньками; казалось, что все это после его смерти начало уходить в землю. На вертикальной части нижней ступеньки камнерез высек его фамилию — ТИЛЬЮ. Обитатели квартала, направлявшиеся в кинотеатр или на станцию подземки, первыми по положению букв в фамилии сделали вывод о том, что ступеньки, кажется, оседают. К тому времени, когда дом исчез, никто уже не обращал внимания на еще один свободный участок в трущобном районе, пережившем свой расцвет.
К северной оконечности узкой полоски земли, составлявшей Кони-Айленд, который на самом деле вовсе не был островом, а представлял собой косу длиной около пяти миль и шириной в полмили, примыкал залив, называвшийся Грейвсенд-Бэй. Расположенная там красильная фабрика потребляла много серы. Старшие мальчишки подносили горящие спички к желтым холмикам, образовывавшимся возле здания фабрики, и, словно зачарованные, смотрели, как эти холмики тут же схватывались голубоватым пламенем, выделяя серный запах. Неподалеку находилась изготовлявшая лед фабрика, которая стала однажды сценой эффектного вооруженного ограбления; налетчики скрылись на быстроходном катере, исчезнувшем в водах Грейвсенд-Бэй. Так еще до появления доступных домашних холодильников здесь были огонь и лед.
Огня здесь всегда побаивались, и на Кони-Айленде регулярно вспыхивали сильные пожары. Прошло всего несколько часов с того момента, как первый парк аттракционов мистера Тилью был уничтожен огнем, а предприимчивый хозяин уже развесил рекламные щиты, зазывавшие на его новейший аттракцион — пожар на Кони-Айленде, и продавцы билетов не успевали взимать входную плату в десять центов с рвущихся попасть в разоренный парк и посмотреть на дымящиеся руины. Как это он сам не додумался до этого, сокрушался Дьявол. Даже Сатана называл его мистер Тилью.
Мы с Сэмми поступили в армию одновременно. Нас было четверо. И всех нас отправили за океан. И все мы вернулись домой, хотя я и побывал в плену, а самолет Сэмми один раз был сбит и упал в воду, а в другой раз совершил аварийную посадку, потому что забывчивый пилот, которого звали Заморыш Джо, забыл о существовании запасного рычага выпуска шасси. Сэмми говорит, что никто не пострадал, а Заморыша Джо наградили медалью. Такие прозвища прилипчивы. Милоу Миндербиндер служил офицером по столовой, и тогда он вовсе не был таким уж большим героем, какого строит из себя сегодня. Командиром эскадрильи у Сэмми был майор Майор, которого невозможно было найти, когда кто-нибудь хотел его видеть; был у него и бомбардир, которого звали Йоссарян, и Сэмми говорит, что этот Йоссарян мне бы понравился. После того как один парень в их самолете истек кровью и умер, Йоссарян снял с себя форму и даже на похороны пошел голым и сидел там на дереве, так Сэмми говорит.
Мы решили записаться добровольцами и поехали подземкой на Манхеттен в огромный призывной пункт, располагавшийся на вокзале Грэнд-Сентрал. В эту часть города большинство из нас почти никогда не наведывалось. На призывном пункте мы прошли медицинский осмотр, о котором были наслышаны от призванных раньше старших ребят. Мы вертели головой и кашляли, показывали головку члена, нагибались и растягивали руками ягодицы, не понимая, чего они там ищут. От наших дядюшек и тетушек мы слыхали о геморроях, но так толком и не знали, что это такое. Психиатр, говоривший со мной наедине, спросил, нравятся ли мне девушки. Я ответил, что они мне так нравятся, что я их трахаю.
Он с завистью посмотрел на меня.
Сэмми тоже нравились девчонки, только он ничего не умел с ними делать.
Нам исполнилось по восемнадцать, и если бы мы дождались до девятнадцати, то нас все равно призвали бы по набору, так сказал ФДР, а мы так это и объяснили нашим родителям, которые не очень-то хотели нас отпускать. Мы читали о войне в газетах, слышали о ней по радио, смотрели про нее шикарные фильмы, сделанные в Голливуде, и нам казалось, что отправиться на войну лучше, чем вкалывать на отцовском складе утиля, как это делал я, или торчать в тесной клетушке страховой компании, как Сэмми, или, как Уинклер, в табачной лавке, которая служила крышей для букмекерских операций его отца. В конечном счете, для меня и большинства из нас оно и обернулось лучше.
Вернувшись на Кони-Айленд с призывного пункта, мы отпраздновали этот день хот-догами и отправились кататься на русских горках — «Торнадо», «Циклоне» и «Молнии». Мы прокатились на большом колесе обозрения, хрустя глазированным попкорном и глядя в сторону океана — в одном направлении, а в сторону Грейвсенд-Бэй — в другом. Мы топили субмарины и сбивали самолеты в дешевых игорных залах, а потом ринулись в парк «Стиплчез», где покрутились в бочках, повращались в «Водовороте» и «Человеческом бильярде», половили колечки на большой карусели, самой большой карусели на острове. Мы прокатились на плоскодонке по «Туннелю любви», издавая громкие и непристойные крики, чтобы рассмешить других.
Мы знали, что в Германии есть антисемитизм, но мы не знали, что это такое. Мы знали, что они делают с людьми что-то плохое, но не знали, что именно.
Тогда мы не очень много знали и о Манхеттене. Если мы и ездили в центр, то, в основном, в «Парамаунт» или «Рокси» послушать большие оркестры и посмотреть новые фильмы, которые в нашем районе шли с опозданием на шесть месяцев в «Кони-Айленд» Лоува или в «РКО» Тилью. Большие кинотеатры на Кони-Айленде были в те времена безопасны, прибыльны и удобны. Теперь они обанкротились и больше не работают. Некоторые старшие ребята иногда по субботам возили нас на своих машинах на Манхеттен в джаз-клубы на Пятьдесят второй улице или в Гарлем послушать музыку в цветных дансингах или театрах или купить марихуану, дешево поесть мяса на ребрышках, а при желании потрахаться и отсосаться за доллар, но я в этом почти не участвовал, даже если речь шла только о музыке. Как только началась война, многие принялись делать деньги; и мы тоже. После войны точно так же отсосаться и получить все остальное можно было прямо здесь, на Кони-Айленде, где свои услуги стали предлагать белые девчонки из еврейских семей; эти девчонки успели пристраститься к героину и повыходили замуж за местных наркоманов, у которых тоже не было денег, только цена теперь была уже два доллара, и больше всего дохода приносили им маляры, штукатуры и другие рабочие, приезжавшие из других районов, они не ходили в школу с этими девчонками, и им было наплевать. Некоторые ребята из моей компании, например, Сэмми или Великолепный Марвин Уинклер, сынишка букмекера, начали курить марихуану еще до войны, и если уж ты знал, как пахнет эта штуковина, то всегда мог учуять этот запах, сидя на местах для курящих в кинотеатрах Кони-Айленда. Этими вещами я тоже не занимался, и мои дружки никогда не закуривали в моем присутствии своих начиненных марихуаной сигарет, хотя я им и говорил, пусть себе курят, если хотят.