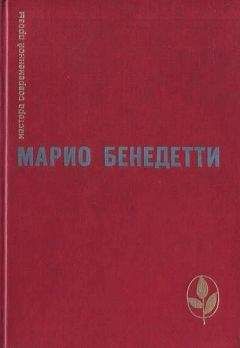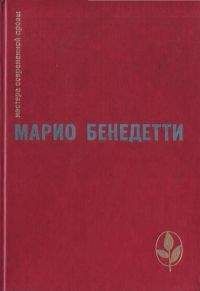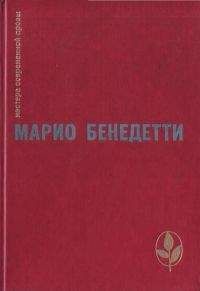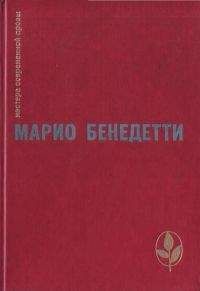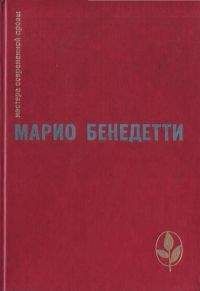Вторник, 9 июля
Так, значит, я боюсь, что через десять лет она наставит мне рога?
Вигнале. Встретились на Саранди. Выхода не оставалось, пришлось выслушать его излияния. Вид у него был несчастный, я потерял в какой-то момент бдительность, и в результате мы очутились у стойки с чашечками кофе в руках. Громким голосом — обычная его манера вести доверительные беседы — Вигнале поведал мне дальнейшие перипетии своей идиллии: «Ну до чего же не везет, черт побери! Жена нас застала, можешь представить? Не то чтобы уж совсем, как говорится, в разгар преступления. Мы только целовались. Но ты не представляешь, какой крик подняла моя благоверная. В ее доме, под ее кровом, мы, которые едим ее хлеб. И я, ее муж все-таки, чувствовал себя просто жалкой букашкой. Эльвира же, наоборот, отнеслась к делу очень даже спокойно и тотчас придумала шикарное объяснение: она и я всегда были словно брат с сестрой, мы поцеловались по — родственному, ничего особенного. Тут я понял, что ко всему я еще и кровосмеситель, а супруга между тем орет на чем свет стоит. «Не думайте, что вы хорошо устроились, — кричала она, — что я буду помалкивать, как твой недоделанный Франсиско». И тут же кинулась к теще, к соседям, к лавочнику. Через два часа весь квартал уже знал, что «эта стерва» пыталась отбить у нее мужа. Эльвира же со своей стороны весьма энергично заявила мужу, что ее оскорбляют и она больше ни одной минуты не останется в этом доме. Однако же осталась еще часа на три, в продолжение которых сделала мне ужасную пакость, в полном смысле слова ужасную пакость. Видишь ли, Франсиско, он на все согласен, он человек не опасный. Но моя супруга вопила, кричала, то и дело бросалась на Эльвиру. И та, видимо со страху, знаешь что ей сказала? И кому, дескать, только в голову придет обратить внимание на такую дрянь. Ты подумай! Хуже всего то, что благоверную мою эти слова убедили, она сразу же и утихла. Нет, ты только подумай! Клянусь, этого я Эльвире никогда не прощу! Пусть убирается куда подальше вместе со своим рогоносцем. Хватит! В конце концов, знаешь, она вовсе не так хороша, как мне показалось сначала. И потом, я вот что теперь понял: раз уж я все равно теперь неверный муж, так лучше заведу себе какую-нибудь помоложе да посвежее и чтоб дома никто ни о чем не догадывался, это главное, я уважаю святость домашнего очага. И опять же старуха моя — зачем ее волновать, бедняжку».
Она рядом со мной, она спит. Я пишу на листке, нынче вечером вложу его в дневник. Сейчас четыре часа, кончается сиеста.
Я начал сравнивать ее с Исабелью, начал с этого, а кончил совсем другими мыслями. Вот она здесь, рядом со мной. На улице холодно, а в квартире хорошо, даже жарко немного. Ее тело почти обнажено, одеяло и простыня сбились на сторону. Я стал сравнивать ее тело с телом Исабели, как я его помню. Конечно, в те времена все было иначе. И Исабель не была худенькой, я помню крупную ее грудь, чуть отвисавшую. И живот — гладкий, плотный. Бедра ее нравились мне больше всего, я помню их нежную округлость под своими ладонями. И плечи — полные, бело-розовые. И стройные красивые ноги с чуть заметно вздувшимися венами. Тело, на которое я гляжу сейчас, нисколько не похоже на то. Авельянеда худа, ее слабо развитая грудь возбуждает во мне нежную жалость, плечи покрыты веснушками, живот впалый, детский; бедра ее тоже мне нравятся (или меня вообще больше всего пленяют в женщине бедра?), ноги же тонкие, хоть и стройные. Но то тело влекло меня прежде, а это влечет теперь. Обнаженная Исабель была неотразима, едва я ее видел, желание переполняло все мое существо и я уже не мог думать ни о чем другом. Обнаженная Авельянеда кажется беззащитной, беспомощной, прелестной, ее беззащитность трогает до глубины души. Меня тянет к ней, но чувственное очарование — лишь часть ее прелести, ее притягательной силы. Обнаженная Исабель была обнаженной женщиной, и только, быть может, влечение к ней было проще, чище. Обнаженная Авельянеда — человек с ярко выраженной индивидуальностью. Любить Исабель означало желать ее. Любить Авельянеду — значит еще и любить ее личность, ибо именно она составляет не менее половины привлекательности Авельянеды. Я держал в объятиях Исабель, я обнимал ее тело, откликавшееся на все мои порывы и способное возбуждать их. Когда я обнимаю худенькую Авельянеду, я чувствую в своих объятиях и ее улыбку, и ее взгляд, ее манеру говорить, ее нежность, ее стыдливое неумение до конца отдаться страсти и ее чувство вины за это неумение. Так вот, начал я со сравнений такого рода. А потом пришли другие мысли, и я приуныл, пал духом. Каким был я тогда и какой я теперь! Грустно, грустно. Никогда я не был атлетом, боже сохрани. Но где мои мускулы, где сила, где гладкая, без морщин кожа? А главное, многого тогда не было из того, что есть, к несчастью, теперь. Есть неровная лысина (слева меньше волос, чем справа), есть расплывшийся нос, есть складка на шее, редкие рыжеватые волосы на груди; в животе у меня бурчит, на ногах — вздутые вены и вдобавок неизлечимая унизительная болезнь — грибок. Авельянеде все это безразлично, она знает меня таким, какой я сейчас, она не видела меня прежде. Но мне-то самому не безразлично, я смотрю на себя и вижу призрак, оставшийся от молодых моих лет, карикатуру на себя самого. Зато существуют мой разум, мое сердце, мое мыслящее «Я», в конце концов; быть может, это что-то возмещает, я же сейчас, наверное, лучше, чем был во дни и ночи Исабели. Чуть-чуть лучше, не следует слишком обольщаться. Будем справедливы, будем объективны, будем искренни, черт возьми! Вопрос: «А что перевешивает?» Господь, если он существует, наверное, там, наверху, творит крестное знамение с испугу. Авельянеда (о, уж она-то существует бесспорно) здесь, рядом, она открывает глаза.
В конце концов, может быть, Анибаль и прав: я уклоняюсь от брака оттого, что боюсь оказаться в дураках, а не оттого, что забочусь о будущем Авельянеды. И ничего хорошего тут нет. Потому что одно не вызывает ни малейших сомнений — я люблю ее. Я пишу это для себя одного, так что плевать, если слова мои звучат банально. Это правда. И точка. И поэтому не хочу, чтобы ей было плохо. Я не соглашался на брак, ибо совершенно искренне не сомневался, что так ДЛЯ нее лучше, я хотел, чтобы она оставалась свободной, чтобы через несколько лет не оказалась прикованной к старой развалине. Если выходит, будто это лишь предлог, а на деле я забочусь только о себе, стремлюсь застраховаться от будущих измен, значит, ясно — надо поступить по-другому, построить иначе всю внешнюю сторону наших отношений. Ведь нам приходится скрываться, положение ее непрочно, может, это хуже, чем связать себя навеки с человеком вдвое ее старше. В конце концов, раз я боюсь остаться в дураках, значит, думаю о ней дурно, а это с моей стороны просто свинство. Я же знаю — она славный человек, порядочный. И знаю, что если когда — нибудь полюбит другого, то не станет скрывать, обманывать и тем унижать и оскорблять меня. Она тогда, конечно, просто скажет мне все как есть, или я сам догадаюсь, пойму, а выдержки у меня хватит. Но, наверное, лучше всего поговорить с ней, пусть решает сама, пусть почувствует себя увереннее.
Бланка сегодня расстроена. Мы ужинали молча, Хаиме, она и я. Эстебан впервые после болезни ушел вечером из дому. Я не хотел начинать разговор, потому что знаю, как отвечает Хаиме. Потом, когда он ушел, надо полагать, не попрощавшись — трудно принять за «доброй ночи» то рычание, которое он издал перед тем, как хлопнуть дверью, — я остался в столовой и читал газету; Бланка убирала со стола и заметно медлила. Я приподнял газету, чтобы она могла снять скатерть, и взглянул на нее. Глаза Бланки были полны слез. «Что у тебя с Хаиме?» — спросил я. «С Хаиме и с Диего, я поругалась с обоими». Слишком загадочно. Не могу представить себе, чтобы Хаиме и Диего объединились против Бланки. «Диего говорит, будто Хаиме мужеложец. И из-за этого я поссорилась с Диего». Слово «мужеложец» обрушилось на меня двойным ударом: так назвали моего сына, и назвал не кто иной, как Диего, на которого я надеюсь, которому верю. «А можно узнать, с чего это твой распрекрасный Диего позволяет себе подобную клевету?» Бланка горько улыбнулась. «Это самое худшее. Клеветы никакой нет. Он сказал правду. Оттого я и разругалась с Хаиме». Я видел, как трудно Бланке говорить такое о брате, вдобавок — говорить мне. Я сам услышал, как фальшиво прозвучали мои слова: «И ты веришь Диего? Веришь клевете на брата?» Бланка опустила глаза. И так и стояла молча, держа в руках хлебницу — воплощение страдания и женской заботливости. «Так оно и есть, — сказала она. — Хаиме сам признался». До сего дня я не думал, что глаза мои способны полезть на лоб. Виски ломило. «Значит, эти его приятели…»- пробормотал я. «Да», — отвечала Бланка. Меня словно обухом по голове ударили. Однако надо сказать, что в глубине моей души все же и раньше таились какие-то подозрения. И потому, только потому слово «мужеложец» прозвучало все-таки не совсем неожиданно. «Я тебя об одном прошу, — прибавила Бланка, — ты ему ничего не говори. Он — пропащий. Никаких угрызений совести, представляешь? Женщины, говорит, меня не привлекают, все, мол, само собой получилось, у каждого такая натура, какую ему бог дал, а ему, дескать, бог не дал способности любить женщин. И говорит так уверенно, честное слово, у него совсем нет комплекса вины». Тут я сказал, без всякой, впрочем, уверенности: «Вот расшибу ему башку, увидим тогда, какой у него будет комплекс вины». Бланка засмеялась, впервые за вечер. «Не выдумывай. Я же знаю, никогда ты этого не сделаешь». И тогда на меня напало отчаяние, страшное, безнадежное отчаяние. Ведь это же Хаиме, мой сын, у него лоб и рот как у Исабели.