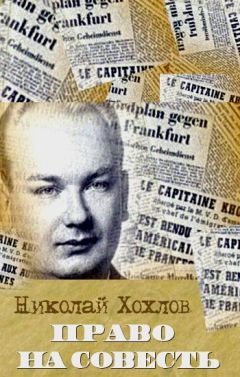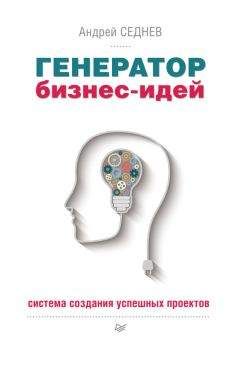Я начал чувствовать по-настоящему уважение к этим людям и сочувствие к их проблемам.
Так появились у меня искренние друзья, вроде Петрики и его единомышленников. Так началось мое знакомство с закулисной стороной народной демократии.
Тем временем война кончилась, и Партизанское Управление МГБ СССР было превращено в «Бюро номер один». Надежды Судоплатова не оправдались. Его службу сильно урезали в правах. Часть офицеров забрали в другие управления, часть попросилась сама о переводе, и генерал не стал их удерживать. Оставшаяся кучка людей, с двумя генералами во главе, попала практически в резерв. Разворота агентурной сети в западных странах Судоплатову не разрешили. Его люди оказались «замороженными» в Румынии. За этих агентов шла борьба с соседними разведывательными службами, пытавшимися лишить «Бюро номер один» последних оперативных резервов. Даже визу министра госбезопасности для выезда за границу сотрудники судоплатовской службы стали получать с трудом.
Так и случилось, что майор Коваленко не сумел приехать в Бухарест раньше конца марта 1946 года. Опоздание майора было очень некстати. Срок моего польского паспорта кончался через месяц. В Бухаресте уже было настоящее польское посольство, открывшее кампанию по возвращению поляков на родину. Весть, привезенная Коваленко, что мне надо настраиваться на длительное пребывание в Румынии, прочно осесть и получить гражданство, поставила меня в трудное положение. Я не видел технической возможности обойтись без визита к полякам. Знаний польского языка и Польши у меня не прибавилось. У службы Судоплатова не было достаточных полномочий, чтобы получить помощь через Варшаву. Связываться с польским посольством местными бухарестскими средствами не разрешала конспирация. Коваленко нашел только один выход: оформить фиктивный брак с румынской гражданкой и, тем самым обойти закон, требующий десятилетнего проживания в стране от всех, запрашивающих румынское гражданство. Собственно сама идея не принадлежала Коваленко. Браки такого характера стали в 1946 году массовым явлением. Беженцев, желающих остаться в Румынии, было много. Адвокат Радулеску одобрил план Коваленко. Холостяцкую жизнь Левандовского решено было закончить.
Среди своих румынских знакомств я выбрал девушку, с которой у меня были хорошие, дружественные отношения. Она знала меня как поляка. Я объяснил ей свое положение: срок моего паспорта кончается. Остаться в Румынии мне не разрешат польские власти. Для них я коммерсант, беженец из Польши, в общем — почти враг народа. Я потеряю магазин, средства к жизни и, может быть, даже своооду, если выеду обратно в Польшу. Выход я вижу только в бегстве за границу, на Запад. Но это нужно готовить тщательно и осторожно. Я предлагаю ей джентльменское соглашение: она выходит формально за меня замуж. Я получаю автоматически румынские бумаги. Столько времени сколько я буду еще находиться в Румынии, моя «жена» будет мною материально обеспечена. Когда появится возможность уехать за границу, мы оформляем развод и я обеспечиваю ей будущее на несколько лет вперед. Тем временем, поскольку оба свободны и ни с кем не связаны никакими обязательствами, мы можем поддерживать такие взаимоотношения, какие подсказывает нам наша собственная совесть и право на полную личную независимость.
«Брак по расчету» оказался вполне приемлемым для моей знакомой. В последующие годы ни она, ни я ни разу не жалели о нашем союзе, так и оставшемся «джентльменским соглашением».
В середине апреля наше «бракосочетание» было совершено мэром Бухареста. От церковной свадьбы невеста отказалась. Она была верующей, и так далеко в нашей инсценировке заходить не хотела. Через несколько дней я получил из местной полиции разрешение на дальнейшее проживание в Румынии. Со своим польским прошлым Левандовский мог окончательно порвать.
Но, если моя жизнь снова наладилась, то жизнь народно-демократической Румынии стала ухудшаться не по дням, а по часам.
Продукция фабрик и заводов стала катастрофически падать. Инженерно-техническая интеллигенция и опытные специалисты один за другим исчезали в неизвестном направлении. Их место занимали партийцы и «патриоты» трудового фронта, часто не знавшие с чего начать и уделявшие больше внимания агитсобраниям, чем организации производства. В обстановке постоянного страха перед арестом и при все уменьшающейся покупательной способности денег, у рабочих и служащих стали опускаться руки. Уровень жизни упал даже ниже военного. Стахановские «движения» и «всенародные субботники» ощутимых результатов не давали.
В довершение всего в стране начался серьезный кризис с продуктами.
Сначала я объяснял себе трудности новой власти сложностью великой народной стройки, пришедшей в Румынию. Но слово «саботаж», всё чаще появлявшееся в печати, дало мне понять, что причины были гораздо сложнее.
Одну из них я почувствовал, когда поехал в Трансильванию, чтобы закупить хоть каких-нибудь продуктов на зиму.
При проезде через деревню, у моего «Опеля» заглох мотор. Машина остановилась недалеко от толпы крестьян, собравшихся вокруг приезжего агитатора. Они стояли полукругом, в своих белых полотняных штанах и длинных рубашках, слушали молча и грустно правительственный указ об образовании колхозов, и сдвигали безнадежным жестом свои высокие бараньи шапки то на глаза, то на затылок. Достаточно было посмотреть на их лица, чтобы понять, как они относятся к коллективизации.
Когда я заменил замаслившиеся свечи и поехал дальше, мне долго попадались понурые белые фигурки, медленно бредущие с собрания к своему, и без того бедному крестьянскому хозяйству, над которым нависла загребущая рука народно-демократического государства.
Со многими такими крестьянами мне удалось впоследствии встретиться и поговорить no-душам. У меня скоро не осталось никакого сомнения, что обычный, рядовой, совсем не богатый крестьянин смотрит на колхоз как на своеобразный трудовой лагерь, где все равны в своем бесправии. Эти меткие и уничтожающие слова мне пришлось услышать в первый раз в жизни. Румынский крестьянин, сказавший их, только что вернулся от своих родственников из соседнего села, где колхоз был организован за несколько месяцев до того.
Мне стало совершенно ясно, что и колхозы и многие другие новшества, диктующиеся программой коммунистической партии, осуществляются силой и вопреки интересам народа.
В моей памяти ожили партизанские впечатления, подсказавшие, что интересы власти и народа не всегда одно и то же в советском государстве. Я все лучше и лучше понимал, что имел в виду Петрика, когда жаловался на произвол и хаос.
И когда газеты объясняли усилившийся в стране голод плохим урожаем, я мысленно видел белые понурые фигурки крестьян, бредущих по полю, которое перестало быть их собственным.
Мои начальники в Москве не имели, конечно, представления о борьбе, которую мне приходилось вести самому с собой. Они были заняты другой борьбой — ведомственной. В начале 1947 года Бюро номер один получило долгожданное разрешение руководства на разворот работы в странах западной Европы. Коваленко привез мне приказ Судоплатова разработать вариант моего переезда во Францию. Румынским гражданином я должен был стать в самое ближайшее время. Радулеску обещал незаметно подтолкнуть через свои связи выдачу мне заграничного паспорта. Оставалось разрешить проблему французской визы. Мне удалось нащупать связи в еврейской колонии Бухареста, ручавшиеся, что они устроят такую визу. Евреи взяли дорого, но не обманули. Скоро в Бухарест пришло из далекой Колумбии официальное разрешение Станиславу Левандовскому иммигрировать в эту заокеанскую страну. Одновременно французское посольство в Румынии получило приказание из Парижа дать Левандовскому транзитную визу на восемь дней для оформления посадки на океанский пароход. В мае я принес Коваленко письмо из французского посольства, извещающее, что Левандовский может выехать во Францию в любое время.
12 июля 1947 года правительственным указом мне было дано румынское подданство. Радулеску внимательно изучил большой диплом; подписанный министрами во главе с Петру Гроза и посоветовал подождать с прошением о заграничном паспорте месяц-другой, для конспирации. Я и не торопился. Мои румынские впечатления и встречи вносили все больше и больше холода в мое отношение к разведке и к моей карьере в ней.
К этим впечатлениям относилась и моя встреча с инспектором Станеску, в конце лета 1947 года. Я окликнул его у одного из столиков в кафе на улице Виктория, и он не сразу нашел мою руку для приветственного пожатия. Он стеснялся своей слепоты и еще не привык к ней.
Станеску сел напротив меня и взял в дрожащие пальцы чашку ячменного кофе. Он рассказал о Маниу, лидере крестьянской партии, сидящем в одиночке и которому не суждено было, повидимому, выйти живым из тюрьмы. О том самом Маниу, который склонил короля порвать с немцами и который первый подписал акт о переходе Румынии на сторону союзников, на сторону советского государства.