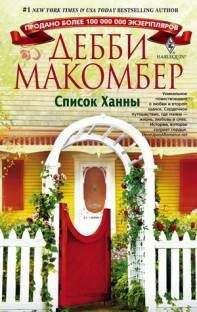Он включает фары.
И чем ближе мы к финалу, тем больше связей между событиями я нахожу. Одна история оказывается связана с другой.
Тони заводит двигатель, и «Мустанг» вздрагивает, после чего медленно катится назад.
Возможно, вы заметили какие-то связи, которые не увидела я. Может, вы на шаг впереди меня.
Нет, Ханна. Я пока ничего не понимаю.
И когда я произнесу свои последние слова… хорошо, возможно, не свои последние слова, а заключительные слова на этих записях… это будет одна туго связанная, тщательно продуманная, эмоциональная история. Другими словами, поэма.
Наблюдать за машиной Тони через окно сродни просмотру кинофильма: «Мустанг» медленно пятится назад, уезжая из кадра, но свет от фар не исчезает, как должен был бы. Он просто застыл на месте. Как будто кто-то остановился.
Вспоминая прошлое, я могу сказать, что перестала записывать стихи в тетрадь, когда мне надоело копаться в себе.
Может, он так и стоит где-то «за кадром», чего-то ожидая? Но чего?
Если вы слышите песню, которая заставляет вас плакать, а вы этого больше не хотите, то вы просто выключаете магнитофон. Но вы не можете сбежать от себя. Вы не можете просто взять и выключить себя. Не можете избавиться от роящихся в голове мыслей.
* * *
После того как свет фар «Мустанга» исчез, окно кафе из киноэкрана превратилось в обычное стекло. Лишь изредка в нем отражаются блики машин, проезжающих по дороге, тогда свет фар скользит от одного края окна до другого. Единственный постоянный источник иллюминации — блеклый розово-голубой свет в верхнем правом углу. Верхушка неоновой вывески «Крестмонта», сияющая над крышами домов.
О боже. Я бы все отдал, чтобы вернуть то лето. Когда мы оставались вдвоем, нам было легко и хорошо. Мы смеялись, болтали, но когда появлялись другие люди, я почему-то замыкался и смущался. Я не знал, как себя вести.
В крошечном офисе-аквариуме, где я продавал билеты, единственной связью с внешним миром служил красный телефон — без кнопок или диска, просто аппарат с трубкой.
Когда я поднимал трубку, мне отвечала Ханна, и я непременно начинал нервничать, словно она находилась не где-то рядом, а дома.
— Мне нужна мелочь, — говорил я.
— Снова? — спрашивала она.
По ее голосу я всегда чувствовал, что она улыбается. А у меня от таких разговоров каждый раз начинало гореть лицо.
Если честно, то когда была ее смена, я менял деньги чаще, чем в другое время.
Через несколько минут раздавался стук в дверь, я разглаживал складки на футболке и открывал ее. Ханна попросила меня подвинуться, чтобы войти в «аквариум», где доставала мелочь из жестяной коробки, которую носила с собой, и меняла мои банкноты.
Если не было посетителей, она садилась на мой стул и просила закрыть дверь. Так мы и сидели в моем «аквариуме», на обозрении у всех желающих, как экспонаты в музее. На самом деле дверь мы закрывали только потому, что так предписывали правила, как-никак мы отвечали за деньги.
Как бы мне хотелось сейчас повторить все это.
В эти моменты, хоть и очень редкие, я чувствовал себя как-то по-особенному. Ханна Бейкер проводила свои свободные минуты рядом со мной. А так как мы оба были на работе, никто бы не подумал ничего плохого. Но почему?
Почему, когда кто-нибудь нас видел, я притворялся, что это ничего не значит?
Мне хотелось, чтобы все думали, что мы просто вместе работаем, и ничего больше. Никаких отношений. Почему?
Из-за репутации Ханны. Она меня пугала.
Когда мы вместе были на вечеринке, я хотел сказать ей, что мне очень жаль. Жаль, что я так долго ждал, что я поддался всеобщему влиянию, что я поверил всему, что о ней говорили. Я мог признаться в этом — и ей, и себе. Но я этого не сделал, а сейчас уже поздно.
Я заслуживаю того, чтобы быть в этом списке. Потому что если бы я не был таким трусом, я бы сказал Ханне, что переживаю за нее. И она, возможно, была бы жива.
Я отворачиваюсь от неонового света за окном.
* * *
Иногда я останавливалась в «Моне» по пути домой, чтобы выпить чашку горячего шоколада. Садилась за столик, делала домашнее задание или просто читала.
Но я больше не писала стихов. Мне нужно было отдохнуть… от себя самой.
Потираю шею — у меня по-прежнему испарина.
Но я любила поэзию и скучала по ней. Однажды, спустя несколько недель, я вновь решила к ней вернуться. Я решила, что с ее помощью смогу стать счастливее.
Счастливые стихотворения. Яркие, полные солнечного света, любви и радости строки, как две женщины на рекламных листовках, которые лежали в «Моне». В них говорилось, что в городе проводится творческий семинар — «Любовь к жизни». Эти женщины обещали не только научить любить поэзию, но и объяснить, как посредством поэзии любить самих себя.
Запишите меня!
Г-7 на вашей карте. Зал для проведения культурных мероприятий в городской библиотеке.
На улице так темно.
Семинар начинался как раз в то время, когда в школе заканчивались занятия, поэтому я бежала бегом, чтобы не опоздать. Но даже если я опаздывала, то никто не ругался, все, наоборот, были рады меня видеть.
Осматриваясь вокруг, понимаю, что в «У Рози» кроме меня никого нет. До закрытия еще полчаса. И несмотря на то что я ничего не ем и не пью, меня так и не попросили уйти, так что могу еще посидеть.
Представьте десять-двенадцать оранжевых кресел, стоящих в круг, на противоположных концах — две счастливые женщины с рекламы. Единственная проблема — они были не такими счастливыми, какими хотели казаться. Кто бы ни делал эту рекламную листовку, он явно поднял им уголки губ в фотошопе.
Они писали о смерти, о человеческой злости, о разрушении — внимание, цитата — «зеленовато-голубоватой орбиты клоками белого».
Серьезно, именно так они это описывали.
Они называли нашу планету беременным газообразным инопланетянином, нуждающимся в аборте.
Еще одна причина, почему я ненавижу поэзию: кто говорит «орбита» вместо «шар» или «сфера»?
«Взорви себя, — говорили они. — Дай нам увидеть то, что у тебя глубоко внутри, все самое темное».
Мое глубокое и темное?
Вы что, мои гинекологи?
Ханна.
Как часто я хотела поднять руку и сказать: «Эмм, так когда мы перейдем к счастливой части? Вы расскажете нам, как научиться любить жизнь? Ну, как говорилось в рекламе: „Поэзия: Любовь к жизни“? Я здесь именно для этого».
Однако я кое-что вынесла из этого семинара. Что-то хорошее?
Нет.
Эмм… сложно сказать.
На семинаре помимо меня был еще один человек из нашей школы. Считалось, что у него талант.
Кто это?
Редактор нашей школьной газеты «Бюро находок».
Райан Шейвер.
Вы знаете, о ком я говорю. Уверена, вы, мистер Главный редактор, ждете не дождетесь, когда я произнесу ваше имя вслух.
Итак, аплодисменты!
Райан Шейвер!
Время рассказать, кто вы такой на самом деле.
Двигатель газеты.
Ты же знал, что сейчас речь пойдет о тебе, Райан. Уверена, что как только я заговорила о поэзии, ты должен был догадаться. Хотя ты, скорее всего, надеялся, что то, что между нами произошло, не стоит отдельной истории в моих записях.
То стихотворение, которое мы разбирали в школе. Боже, это она его написала.
Помнишь, я же говорила, что все это плотно связанный, эмоциональный шар, а я здесь конструктор.
Закрываю глаза и крепко сжимаю зубы, чтобы не закричать. Или не заплакать. Не хочу, чтобы она его читала. Не хочу слышать это стихотворение в ее исполнении.
Хотите услышать последнее стихотворения, которое я написала, прежде чем навсегда завязать с сочинительством?
Нет?
Ну, хорошо. В любом случае, вы уже его читали. Оно очень популярно в нашей школе.
Потихоньку расслабляю мышцы лица.
Мы обсуждали это стихотворение на уроке английского языка. И все это время Ханна была в классе.
Некоторые из вас его помнят. Не дословно, конечно, но вы знаете, о чем я говорю.
Газета «Бюро находок» выходит раз в полгода. Это своеобразная коллекция вещей, которые Райан находит в школе и на прилегающей территории.
Например, любовное послание, спрятанное под партой, которое так и не дошло до адресата. Райан закрасил имена и отсканировал письмо для своего издания.
Или фотографии, которые выпали из личных ящичков или из карманов курток.
Кому-то, наверное, будет интересно, как Райану удается находить столько увлекательных вещиц? Неужели у него такой нюх? Или же он просто мелкий воришка?