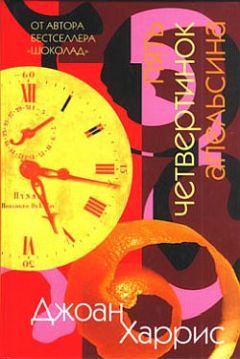Старую.
Писташ смотрела на меня с непонятным выражением лица. Из спальни выглянула мордашка Прюн.
— Бабуля? Что случилось?
— Ложись, солнышко, — быстро сказала Писташ. — Все хорошо. Все в порядке.
— Почему же бабуля кричала? — недоверчиво спросила Прюн.
— Нипочему, — голос дочери стал резким, отрывистым. — Марш в постель!
Прюн неохотно удалилась. Писташ прикрыла дверь.
Мы сидели молча.
Я знала, что она заговорит, как только созреет; у меня хватило ума ее не подгонять. Лицо ее сохраняло видимость доброжелательства, но упрямая жилка в ней все же сидела. Уж я-то понимала; сама такая. Я помыла посуду, убрала. Потом взяла книгу и притворилась, что читаю.
Через какое-то время Писташ спросила:
— О каком это наследстве они говорили? Я повела плечами:
— Да так… Кассис делал вид, будто богач, вот они и опекали его в старости. Соображать надо было. Вот и все.
Я надеялась, что дочь на этом вопросы прекратит, но упрямая складка пролегла у нее между бровей, и это не сулило ничего хорошего.
— Я и не предполагала, что у меня есть дядя, — сказала она без особого выражения.
— Мы почти не общались.
Молчание. Видно было, как она переваривает все внутри себя. Как бы мне хотелось остановить петляние ее мыслей. Но я не знала как.
— Янник весь в него, — сказала я намеренно беспечным тоном. — Смазлив, но без царя в голове. И женушка вертит им как ей вздумается.
Тут я, надув жеманно губы, изобразила Лору, надеясь вызвать у Писташ улыбку, но брови у нее только сильнее сдвинулись.
— По-моему, они считают, что ты его в чем-то надула, — сказала она. — Больного вынудила взять выкуп.
Я сдержалась с трудом. В такой момент злость — плохой помощник.
— Вот что, Писташ, — спокойно сказала я. — Ни слову этих людей не верь. Вовсе Кассис не был болен. А если был, то не тем, о чем ты думаешь. Пьянство довело его до нищеты, он бросил жену с сыном и продал ферму за долги.
Дочь с любопытством смотрела на меня, и мне стоило усилия не сорваться на крик.
— Послушай, все это было давным-давно. Все кончилось. Брата нет в живых.
— Лора сказала, есть еще сестра. Я кивнула:
— Рен-Клод.
— Почему ты мне не говорила? Я повела плечом:
— Мы не…
— …общались тесно, хочешь ты сказать? — подхватила она тихо и как-то вяло.
Снова во мне зашевелился страх, и я сказала резче, чем хотелось бы:
— Уж ты-то это могла бы понять. Ведь и вы с Нуазетт особо…
Слишком поздно я прикусила язык. Дочь передернуло, и я уже проклинала себя за свои слова.
— Верно. Но я хоть пыталась. Ради тебя.
Черт подери. Как же я упустила, она у меня все понимает. Все эти годы я держала ее за тихоню, между тем вторая моя дочь дичала день ото дня. Да, Нуазетт всегда была моей любимицей, но до нынешнего дня я-то думала, что умею это скрывать.
Если бы Писташ была Прюн, я бы прижала ее к себе, но сейчас на меня пристально и холодно смотрела сонными кошачьими глазами тридцатилетняя женщина с едва уловимой мучительной улыбкой на губах… Я подумала о Нуазетт, о том, как я из гордости и упрямства отдалила ее от себя. Попыталась объяснить.
— Нас разбросало уже много лет тому назад. После… войны. Мать была… больна… и мы разбрелись по родственникам. Мы не общались. — Это была полуправда, по крайней мере столько могла я сказать Писташ. — Рен уехала, стала… работать… в Париже. Она… она тоже болела. Сейчас она в частной больнице недалеко от Парижа. Однажды я навестила ее, но…
Как это все объяснить? Заведение с характерным запахом — вареной капусты, прачечной и болезней, — ревущие телевизоры в кротких стенах, населенных брошенными людьми, которые хнычут, отказываясь от тушеных яблок, которые иногда орут друг на дружку с неожиданной злостью и, сжимая слабенькие кулачки, пихают обидчика к бледно-зеленой стенке. Там был один человек в инвалидном кресле, еще не старый, с физиономией, похожей на сжатый, весь в шрамах, кулак и с вращающимися, полными безнадежности глазами. Он все кричал: «Мне здесь нехорошо! Мне здесь нехорошо!» — все время, пока я там была, пока его голос не стих до еле слышного гудения, так что даже я перестала воспринимать его горе. Женщина стояла в углу, повернувшись лицом к стене, и рыдала, и никто не обращал на нее внимания. И еще одна — в постели, огромное, расплывшееся существо с крашеными волосами, с круглыми белыми ляжками, с плечами, прохладными и мягкими, как свежее тесто, кротко улыбалась сама себе, что-то бормоча. Только голос был прежний, иначе я бы ни за что не поверила своим глазам, — голос маленькой девочки, бубнящей бессмысленные слоги, глаза пустые и круглые, как у совы. Я заставила себя коснуться ее руки.
— Рен, Ренетт!
Снова эта вялая улыбка, легкий кивок, как будто в своих мечтах она королева, а я ее подданная. Она забыла свое имя — так тихонько сказала мне медсестра, — но вполне счастлива; нашла свою «радость», обожает телевизор, особенно мультики, и еще когда играет радио, а ей расчесывают волосы.
— Правда, и у нас случаются сильные приступы, — говорила сестра.
Все во мне похолодело от этих слов, ужас жестким и жарким узлом скрутился в животе.
— Мы просыпаемся среди ночи.
Какое странное это «мы»: как будто, отчасти принимая на себя свойства другой женщины, эта способна вжиться в чувства старого, безумного человека.
— А иногда мы немножечко злимся, правда?
И она светло мне улыбнулась, юная блондиночка лет двадцати. И в этот миг я с такой силой возненавидела ее за молодость и беззаботное невежество, что даже чуть ли не улыбнулась в ответ.
И поняла, что точно так же улыбнулась я сама, когда глядела на свою дочь, и за это возненавидела себя. Сделала еще попытку смягчить ситуацию.
— Видишь ли, — сказала я виновато, — я ненавижу старость и больницы. Я посылала деньги.
Этого говорить не следовало. Но бывает, все, что ни говоришь, все невпопад. Мать хорошо это знала.
— Деньги, — презрительно сказала Писташ. — Неужели это в жизни главное?
Вскоре дочь отправилась спать, и снова между нами в то лето все разладилось. Через две недели она уехала, чуть раньше, чем предполагалось, сославшись на усталость и на подготовку к школе, но я видела, что не в этом дело. Пыталась еще раз или два поговорить с ней, но безуспешно. Она по-прежнему замкнулась, взгляд настороженный. Я заметила, что ей приходит много писем, но тогда ничего не заподозрила. Мысли мои были заняты совсем другим.
2.
Через несколько дней после истории с Янником и Лорой появилась эта закусочная на колесах. Ее привез громадный трейлер, припарковав в траве у дороги как раз напротив «Сгêре Framboise». Из трейлера вышел молодой парень в красной с желтым бумажной шапочке. В тот момент я была занята с посетителями и особого внимания не обратила, поэтому, когда позже днем выглянула из окна, с удивлением увидела, что трейлер укатил, оставив у обочины маленький фургончик, на котором крупными красными буквами было написано «СУПЕР-ЗАКУСОН». Я вышла из магазина, чтоб получше рассмотреть. С виду фургончик был необитаем, но ставни были стянуты тяжелой цепью, на которой висел замок. Я постучала в дверь, но ответа не последовало.
На следующий день фургон-закусочная открылся. Я обнаружила это примерно в половине двенадцатого, когда обычно начинают сходиться мои постоянные посетители. Между распахнутыми ставнями возник прилавок, над ним раскинулся красно-желтый навес, а ниже тянулась тесемка с цветными флажками, на каждом из которых значилось название и цена — «жареный бифштекс, 17 фр.», «жареная сосиска, 14 фр.» — и еще висела парочка ярких плакатов, рекламировавших «Супер-Закусон», «Большой Классный Бургер» и всякие безалкогольные напитки.
— Похоже, конкуренты появились, — заметил Поль Уриа, появившийся ровно в четверть первого.
Я не спрашивала его, что закажет; он всегда заказывал дежурное блюдо и demi.[55] Вообще-то он много не говорит, сидит себе на своем обычном месте, ест да на дорогу поглядывает. Я и восприняла эти слова как одну из его редких шуток. Бросила насмешливо:
— Скажете тоже! Уж если, мсье Уриа, конкурентом моей «Сгêре Framboise» станет какой-то фургонный торговец машинным маслом, тогда пора мне складывать кастрюльки и убираться отсюда подобру-поздорову.
Поль усмехнулся. В тот день дежурным блюдом были его любимые жареные сардины, а к ним мой ореховый хлеб в корзиночке; он ел не спеша и, как обычно, посматривал на дорогу. Появление закусочной на колесах вроде бы не повлияло на число посетителей блинной, в последующие два часа я хлопотала на кухне, а моя официантка Лиз обслуживала клиентов. Когда я снова выглянула в окно, у фургона уже стояли двое, но из молодежи, не моя клиентура, — девушка и парень. В руках у них были кулечки с чипсами. Я повела плечами. Да пусть себе.