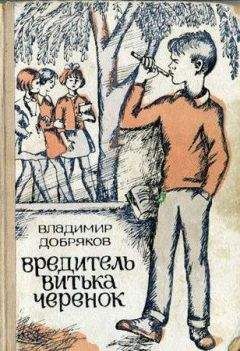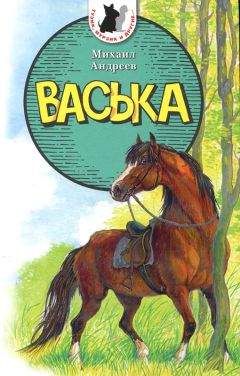Как же случилось, что лежит он в сарае, скрывается как последняя шкура? А цепи сходятся тесней, и видно, как шагают Воробьев и Гандзюк, а старший сержант Потапенко сурово поджал губы. Лейтенант Сергеев хлещет по сапогам прутиком, как бы гуляет меж деревьев, и вдруг этим прутиком тычет в сторону сарая: тут проверьте!
Роют уже поленья, швыряя их в сторону со стеклянным стуком. Пропал Андрей! А голоса нет, и сил нет, чтобы подняться и стоя, а не лежа встретить своих… Не по-собачьи, сжавшись в узелок.
Застонал Андрей от своего позора и проснулся. Сразу сообразил, что стонал он вслух. За поленницей кто-то ворошит дрова. На улице светло. Солнце в каждой щели, сечет сумрак лучами. И воробьи наверху чвикают, ссорятся, пищат, крошки и всякий мусор сыплется Андрею на лицо.
Он скривил губу, пытается сдуть с себя, со щеки эти крошки. Услышал, как встали на солнышке по ту сторону стены ребятишки, судачат о своем. Через доски их видно по контуру щелей.
Андрей прислушался: говорили о своих делах. О том, что какого-то Грача вызвали к директору за разбитое окно. Директор, мол, сказал, что сам разбил, сам и вставляй. Почему все должны мерзнуть? Не вставишь, мол, и не приходи. А где он, Грач, найдет новое стекло, легче ему из детдома уйти. А Сморчок, тоже чудеса, стал пропадать неведомо где. Раньше кусочничал, под ногами вертелся, норовил в рабство за кусман продаться. А теперь… Прибежит, глазами повращает и спать. Может, спер по-крупному да подъедает потихоньку, надо последить…
Тут крикнули со стороны: «Завтрак готов!» И ребята посыпались от стены, вмиг не стало никого. Андрей стал думать о Ваське, но сон вспомнил, настроение его погасло. Повернулся резко, аж воробьи перепугались, вспорхнули. Так решил: сегодня последний день у него. Найдется али не найдется оружие, надо выходить. Хватит по-звериному жить и усугублять свое положение. Дальше фронта не угонят, ближе тыла не пошлют.
Принял решение и стал выбираться из лаза на волю.
– 17 -
Теплым вечером возвращался Васька в детдом. Шел и оглядывался. Небо и земля, крыши домов, голые скелеты деревьев – все обрело необыкновенный сиреневый оттенок. Будто плеснули химических чернил. И запах был цветной, густой, вечерний.
Странное чувство испытывал Васька. Он впервые увидел в жизни настоящую весну. Вдруг спала с глаз пелена, и узрел он мир в прозрачных сумерках, в удивительном закатном свете. Так пронзительно, так ярко все увидалось. Зима казалась теперь одним непрерывным серым днем, без запаха и цвета. Но она кончилась, с ледяным голодом, промозглыми холодами, и наступила перемена в Васькиной теперешней жизни.
У дома на пустыре ловили майских жуков.
Ребята приседали, чтобы лучше видеть на фоне светлого неба. Когда издали появлялись тяжелые, замедленно и неровно летящие жуки, все бросались им навстречу, швыряли галоши и шапки, размахивали ветками, пучками прошлогодней травы. Ползали по земле, отыскивая их на ощупь, старались разглядеть, поднося к глазам, какого цвета шейка. У самочек шейка была красная, у самца синяя. Самцы попадались реже.
Так продолжалось до темноты. Впрочем, никакой темноты еще и не было, но сгустилось настолько, что жуков, еще летящих, гудящих над головой, никто не различал. Но и от одного их близкого дребезжащего гуда в этих серых, синих, сиреневых сумерках у Васьки приятно кружилась голова.
Детдомовцы, собравшись, пересчитывали добычу, хвалясь друг перед другом и поднося спичечные коробки к уху, было слышно, как в них царапается и шуршит. Васька вертелся между всеми, слушал, смотрел и никак не завидовал чужой удаче. Была бы охота, он завтра наберет их хоть корзину с молодых березок. Спящие жуки, только потряси ствол, сами посыпятся, как желуди, наземь. Но разве интересно собирать спящих жуков. Другое дело – ловить вот так, с воем, с криком, отчаянным азартом, когда колотится сердце от захватывающей этой охоты. Но еще пуще, это впервые сегодня понял Васька, была сама причастность его ко всем, объединявшая их общность ловли и азарта.
А тут еще кто-то крикнул:
– Скорей! Радио известия передает!
И всем скопом, с топотом и сопеньем, ринулись на крыльцо и в кабинет директора, где висел репродуктор с порванной тарелкой.
В давние времена кто-то из воспитателей принес его в детдом, прицепил на гвоздь, так он и висел, сквозь вырванный черный клок была видна стена.
Все могли разрушить детдомовцы: топчан сломать, на котором спали, миску сплющить, из которой ели, ножку у стола отвернуть… Но репродуктор этот, висящий, как говорят, на честном слове, который можно было сто раз унести, раздраконить, разобрать по частям, никто никогда не тронул… Да и попробовал бы тронуть! Он приносил ребятам главное: вести с фронта. А кому они были важней, как не детям, чьи отцы шли через войну к тому дню, когда вернутся и заберут их домой.
И каждый понимал это. И каждый лез под самую тарелку, чтобы лучше знать, слышать, что происходит на переднем крае, А Васька, который в обычное время слушал как бы издали, потому что не ждал никого и никогда, а ждал победу, которая в его жизни могла вдруг все изменить, нынче Васька протиснулся ближе всех. С появлением в его жизни дяди Андрея фронт и новости, идущие оттуда, стали его интересовать. Не сегодня завтра дядя Андрей поедет туда, и очень нужно Ваське знать, как там сейчас, очень ли опасно будет для его дяди Андрея.
Диктор сообщил от последнего Совинформбюро, что на фронтах шли бои местного значения. Голос в репродукторе дребезжал, а временами даже звенел от резонанса. Но тихо было в комнате, как не бывает никогда при большом скопище детей.
И тут вновь, и опять же впервые, почувствовал Васька, что все они, и он и другие ребята, от самой малой пацанвы до великовозрастных, объединены чем-то большим, чем просто их жизнь в детдоме…
А потом кончилось, распалось, и всяк оказался сам по себе. Расползлись пацаны, как выпущенные на волю жуки: каждый в свою щель. А Васька побрел в спальню.
В комнате, в дальнем углу, сидел Толька Рябушкин со своим отцом – старшиной, он служил неподалеку в части. Каждый вечер старшина приходил с зеленым вещмешком, одним движением развязывал петлю и доставал котелок с кашей. Отгородив сына от назойливых ребячьих глаз, садился и молча смотрел, как Толька поглощает свою кашу.
Никогда ничем не интересовался этот озабоченный и скучный человек. Перед скорой отправкой на фронт жил в нем один непроходящий страх, вызванный неминуемым расставанием с сыном.
Никого из Толькиных дружков не помнил он в лицо, да, кажется, их побаивался. Может, он себе и детдом представлял как скопище одинаково больших и прожорливых ртов, которые норовили что-нибудь урвать из содержимого котелка, предназначенного сыну, лишь ему одному.
Возможно, старшина сам недоедал из-за своей так проявляемой любви и некоторой доли вины за то, что он уедет на фронт, а сын останется тут голодать.
И он пихал, пихал в Тольку свою кашу.
Упрашивал, умолял съесть и утешался, и вздыхал свободно, когда котелок освобождался, а Толька наполнялся до краев.
Вот и сейчас сын уже давился, прикрытый отцом как каменной стеной. Он канючил сквозь набитый рот:
– Паа, я не хочу… Я не могу… Я потом…
– Что ты! Что ты! – пробормотал старшина испуганно, суетливо. – Ты ешь сейчас. Отдохни и поешь. А потом я снова принесу.
Толька Рябушкин пыхтел, откидывался навзничь, стараясь вдохнуть воздух. Даже привставал, чтобы больше умялось.
Ребята занимались в спальне своими делами, готовили постели, но слышали они все, и каждый звук со стороны Тольки, каждый скребок ложкой по металлу раздражал их, вызывал голодную слюну.
Старшина не выдержал длинной волынки, выскочил в туалет.
Толька и его котелок, стоящий на коленях, открылись как царский трон все равно.
Не спеша обвел он спальню царским оком и голосом повелителя – куда теперь пропал его писк – стал выкликать дружков. Но первыми позвал Боню и Сыча. Так покупалась желанная свобода, независимость и дружба Толькина.