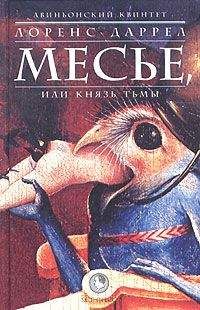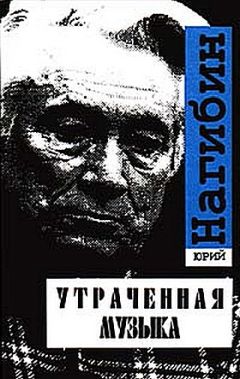- В карете небось, - осторожно сказал ямщик.
- Вот дубина! Стал бы я тебя спрашивать!.. Нет его.
- Вывалился, поди.
- Что ты несешь, болван! Дверца запирается…
Лицо ямщика было еще крепче заперто, чем дверцы кареты, и Голицын почувствовал какой-то мистический страх:
- Слушай, а был он вообще-то, этот француз?
- Кто его знает, - раздумчиво произнес ямщик. - Может, был, а может, нет. Как вашей милости угодно.
Голицын диковато глянул на ямщика: тот всерьез допускал, что никакого Медвейса не было. Только с ним случается подобное: ехал человек рядом в карете, дышал, ворочался, что-то напевал, язык учил, и нет его, будто живьем взят на небо. А может, вообще ничего не было? Все только приснилось ему в долгом, тяжелом, ухабистом каретном сне? Князю захотелось всхлипнуть, облегчить заболевшую грудь, он сморщился, но ни слезинки не выжал. «А, черт с ним! - отмахнулся он. - Подумаешь, Моцарт!.. Француз, учителишка музыки… Хватит, довольно попили русской кровушки!.. - Он откинулся на подушки, крикнув в окошко кареты: - Гони!..»
А Медвейс, хоть и помятый мужиками за теплую русскую речь, был все же доставлен в барский дом. На радостях Голицын велел истопить «мусью» баню и хорошенько попарить можжевеловым веником. После чего из своих рук поднес ему чарку водки и пригласил к столу. Необидчивый Медвейс очень смеялся над своим приключением, но уверял, что русский язык он все равно изучит, и просил порекомендовать ему учителя. «Лучше нашего попа никого нет, - решил князь. - Я сам ему скажу».
И сказал. Священнику велено было обучить Медвейса церковно-славянскому. Живым русским он и так овладеет - в девичьей, пусть вывезет из России три языка.
Новое обиталище семьи пришлось крайне не по душе Голицыну. «Это какая-то Сибирь», - брюзжал он, словно причудливый каприз жены, а не его собственные вины заставили семью забиться в такую глушь. Бывает, что рослые люди любят тесноту: Петр I мог спать только в низеньких келейках; верзила Голицын любил простор и свободу: высоченные потолки, большие комнаты с венецианскими окнами. Ему было тесно и душно в маленьких покойчиках, он то и дело стукался лбом о притолоки, локтями сбивал разные безделушки. Это раздражало. Ко всему, его дочери, чтобы угодить отцу, разучили хоровую песню, которую и пропели, неправильно ставя ударения:
Солдатушки, ребятушки,
Где же ваши жены?..
Он научил их петь правильно эту песню, напугав до дрожи своей требовательностью, ибо в увлечении любимым делом начисто забыл, что перед ним дочери, а не певчие салтыковского хора. Почувствовав отчуждение детей, он окончательно возненавидел Огарево. В этой тощей деревеньке никогда не видели таких громадных и пышных людей, как князь Голицын, который, ко всему, уже начал чудить в одежде, что в дальнейшем станет источником удивительных недоразумений. На дирижерском месте он появлялся в безукоризненном черном фраке и пластроне, в обычной жизни, особенно в деревне, проявлял склонность к невиданным архалукам, широченным кафтанам, восточным шальварам и халатам, полуклобукам-полуермолкам, призванным сдерживать буйную гриву уже проточенных сединой волос. Он запустил, в добавление к бакенбардам, усам и подусникам, длинную раздвоенную бороду; чрезмерность роста, чрева, волос и облачения производила пугающее впечатление. Сталкиваясь с ним, огаревские мужики испуганно ломали шапку, девки ахали и закрывались рукавом, старухи крестились, а ребятишки с визгом кидались врассыпную. Ушлых салтыковцев, привыкших на своих ярмарках и к бухарцам, и к башкирам, и к цыганам, и к жидовинам, и «нахалкиканцам», ничем не удивишь, но местное бесхитростное население было потрясено. Убедившись вскоре, что в огаревцах говорят не патриархальные чувства почтения и трепета, а нечто более сложное: он воплощал для этих простых душ урядника и нечистого в одном лице, - князь приказал раздать деревенским ребятишкам пряники, наскоро перецеловал дочерей, велел им спеть про солдатушек с правильно расставленными ударениями и укатил в Салтыки.
На одной из почтовых станций от столкнулся с женой, но странно (опять странно!), оба будто израсходовали в первом горячем и неудачном порыве друг к другу остаток любовного чувства. Они встретились доброжелательно-прохладно, наскоро поговорили и отправились - каждый в свою сторону.
Это не значит, что они больше никогда не встретятся, не обменяются добрым словом, напротив, после летучего свидания на почтовой станции им стало легче и проще друг с другом, ибо они поняли: ждать и надеяться не на что. Екатерина Николаевна будет ходить на его концерты, отпускать к нему детей, они проживут бок о бок целое лето в Гостилицах под Петергофом у тетки Потемкиной: она с детьми, он со своим хором; князь будет обращаться к ней с разными просьбами, и Екатерина Николаевна ни в чем не откажет мужу, кроме одного-единственного - развода, но то случится в другую эпоху беспокойного бытия Юрки.
Начало профессиональной жизни Голицына можно отнести ко времени Гостилиц, хотя никто из окружающих не догадывался, что придворный и камергер прочно, всерьез, навсегда взял в руки дирижерский жезл. Считали - чудит Юрка!.. Он не чудил. И стал выступать за деньги не по блажи, а потому что, лишившись большей части доходов, не имел средств содержать хор, а лишь в хоре видел он теперь смысл своего существования. Когда-то Пушкина осуждали, что он берет деньги за стихи. На эти нападки он ответил знаменитым: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Пока в свете думали, что князь играет в артиста, над капельмейстерскими доходами богача Голицына добродушно посмеивались, когда же узнали, что он берет плату за выступления по нужде, его стали презирать.
Отгремели коронационные торжества, празднества, приемы, балы, лег на дно сундука расшитый золотом камергерский мундир, князь целиком посвятил себя хору. Иных забот не осталось, душа освободилась от накипи, вся ушла в любимое дело, и хор дружно откликнулся своему вожу. Голоса певцов засияли. Обе столицы рвали друг у друга голицынский хор, и двигал светской публикой более сильный позыв, нежели духовная жажда, - мода. Безбожники упивались церковной музыкой, люди, не знавшие толком ни родного языка, ни отечественной истории, заходились от старинных русских песен, любители полонезов хмелели от ядреной «Камаринской».
В уцелевших письмах князя той поры нет ничего от помещика, барина, связанного общими заботами и распрями с другими землевладельцами, - лишь трудолюбивый музыкант-профессионал, целиком расходующий себя на выступления, спевки, многочисленные хлопоты, связанные с размещением и устройством почти полутораста человек. Князь живет несколько месяцев возле жены и светских родичей, но волнуют его только Ваньки, Андрюшки, Маньки, Парашки, что должны сытно есть, сладко пить, крепко спать, чтобы выдержать суровый рабочий режим и в положенный час явить глас небожителей, эхо давних времен, плач и бурное веселье нынешней народной жизни, растревоженной веянием ожидаемых перемен.
Невероятный успех голицынского хора объяснялся не только великолепным подбором и выучкой певцов, талантливой музыкальной трактовкой исполняемых произведений, тончайшим чувством народного мелоса и романтической личностью красавца князя, но в большой мере самим временем, заставлявшим по-иному смотреть на русскую деревню, которая из поставщика бессловесных рабов превращалась в поставщика новых граждан, новой общественной силы, а чем это чревато, никто не мог предугадать. Но что накат волны будет велик и грозен, понимал каждый. И хотелось поглубже заглянуть в глаза таинственных незнакомцев, которые не сегодня завтра прянут из тьмы. Было и другое: позорное поражение в Крымской войне невольно обращало взоры вспять, к прошлому, к черным дням русской истории, когда на авансцену выходил н а р о д, таящийся до поры в глухом непроглядье, но в роковой час приносивший торжество русскому делу. Так было при Александре Невском, на поле Куликовом, в Смутное время и при нашествии Наполеона. В Севастополе народную силу побороли не вражеские армии, а свои же бездарные командующие, алчные чиновники и всякого рода нечисть, налипшая на русское тело. И понимать это начали только сейчас, в широких кругах мало знали о трагедии Севастополя.
Из песен голицынского хора вставал народ - старинный, недавний, нынешний, пожалуй, и завтрашний, народ с его тоской и весельем, его духовной жаждой, с загадочной способностью оставаться самим собой, в собственном достоинстве, как его ни мяли, ни корежили.
Да ведь и сам хор был народом, пусть принаряженным, отмытым, причесанным волосок к волоску, расписным, как тульский пряник, а все же - частица той мощи, что не сегодня завтра вырвется из курных избушек не для решения какой-то исторической задачи - для исторической ж и з н и. А ведь жизнь одних всегда отнимает хоть частицу жизни других. Тут было о чем задуматься. В мелодичных стонах чудились громы, и странно-пронзительно было видеть, что темная мощь покоряется движениям жезла Гедиминовича. Это дарило какую-то надежду. Пусть звучат, разливаются, грохочут, звенят, рассыпаются чужие голоса, лишь бы они подчинялись движениям руки, в которой течет голубая кровь. Весь Петербург ломился на голицынские концерты…